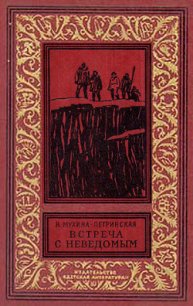Плато доктора Черкасова - Мухина-Петринская Валентина Михайловна (читать книги онлайн полностью txt) 📗
Глава шестнадцатая
О СУДЬБЕ, ФАРТЕ И СЛУЧАЙНОСТИ
Когда я наконец проснулся, ходики показывали девять. Это было девять утра: я проспал около суток.
Абакумов истопил печь, потому я и проснулся — уж очень припекало.
Стол был придвинут к постели отца, на столе паровал горячий чайник и аппетитно пахли свежие пироги и шанежки. Ярко светила висячая керосиновая лампа. В избе было чисто прибрано, деревянный большой сундук прикрыт каким-то рядном. Судя по притихшему ветру, пурга заканчивалась.
Чай стыл, а отец и Абакумов спорили.
— Ты обокрал самого себя! — страстно упрекал отец.— Что ты с собой сделал? Куда ты дел свою жизнь?
Отец горячился, Абакумов был спокоен и грустен.
— Такая моя судьба...— покорно сказал Абакумов.
— Чушь! Судьбу делает сам человек. А ты думаешь, от бога?
— По такой жизни давно растерял бы веру, кабы и была,— горько заметил Абакумов.— Иконка-то — память матери. Она всю жизнь таскала ее с собой по приискам да зимовкам. Все, что у нее было,— это иконка, мешок с барахлишком да вот я... Родом она была с Лены, но жизнь ее вырвала с корнем. Об отце я никогда что-то не слыхал. Мать стеснялась об этом говорить. Мне было тринадцать лет, вот как ваш Коля, когда ее пришил ножом по пьянке какой-то «копач» — золотоискатель.
И я рано стал золотоискателем, благо что был высок и крепок и мне давали больше лет, чем было на самом деле. Тогда гремели Алданские золотые прииски, и я подался в Незаметный.
С богом у меня, Дмитрий Николаевич, такие отношения: днем не верю, ночью верю, и тем крепче, чем ночь темнее... от одиночества и страха. Хочется, чтобы был он для защиты. А насчет судьбы... Может, кто, конечно, и сам себе делает судьбу, если ему всегда везло в жизни и ничто не мешало. Или хоть научили его, что желать, как вы сына своего учите. А меня чему учили? Рос я среди всяких проходимцев, сброда. Бог у них один — фарт! Ему и поклоняются. Идеал — свобода, а свобода ведь — смотря как ее понимать... Хошь пей, хошь бей, хошь слезы лей! Тоже свобода...
Один старичок на моих руках помер в зимовье — из бывших монахов. Золотой крест и валенки отдал, умирая, хозяину зимовья за долги, а Евангелие приказал мне отдать. Не раз читал. Интересно!.. С чем не согласен категорически — если ударят по одной щеке, подставь другую... Забьют так, пожалуй. Как мать забили. Она была кроткая, у жизни нищая. Никого не обижала, а ее крепко обидели. Ну, а в чем вычитал и премудрость великую. Помните, Дмитрий Николаевич, притчу о Сеятеле? Упало зерно на каменистую почву, пустило корни, но не хватило земли, и зерно то засохло. Вот я, пожалуй, тоже был этим зерном...
— Не подходит, Алексей,— усмехнулся отец.— У тебя были ноги да еще разум в придачу, чтобы перейти на хорошую почву.
— Да ведь переходил, Дмитрий Николаевич, искал. Только от судьбы не уйдешь — везде получалось одно. Что моя жизнь! Скитания, бродяжничество... Все хотел уйти от судьбы, на ноги надеялся. Алдан, Бодайбо, Большой Невер, Сахалин, Чукотка... Вербовался, работал, сколько душа могла вытерпеть, а потом мешок на плечи — и айда! Все имущество: мешок заплатанный, ружьишко, котелок, ложка, трубка с табаком, лоток да лопата.
— В чем была твоя мечта, Алексей?
— Золото! Горы земли перетряхнул. Дьявольский труд!.. Кайлил вечную мерзлоту. Наживал ревматизм в забое. Старатель-золотишник... индивидуалист.
— Случалась удача когда-нибудь?
— Случалось... Бывало, и самородки находил.
— Ну и что?
— Известно... Приоденешься — и в жилуху... Чаще всего в Иркутск. А бывало, и до Москвы добирался и до Одессы.
— И что ты видел в городах?
— Прокутишь весь фарт и опять же в тайгу. За лоток. Опять горы земли перетрясешь... Случалось, с ребятами набеги на прииски делали, вымывали золото и волокли его в мешках на салазках по тайге, чтобы пропить, промотать. Потом милиция крепенько взялась за это дело! Познакомился я тогда и с тюрьмой и с лагерями. Уголовники вызвали во мне сильное отвращение... Не люди. Еще похуже меня. Взялся я тогда ишачить. Ну, выпустили меня досрочно — зачеты помогли.
Огляделся, поговорил кое с кем... Старателей совсем прижали. Нет им хода. Иди на прииск в кадровые... Бился я, как щепка в проруби. Спал и в зимовьях, и в чумах, и просто на земле, на снегу. Проклятая жизнь! Бродяга, проходимец. Это значит: проходи мимо!
Доводилось, и с разведческой партией бродил, и в забоях работал, и на лесоповале, и по плотницкому делу. С топором я всегда хорошо управлялся. Сила и ловкость в руках. Костоправом слыл умелым...
— Что правда, то правда,— пробормотал отец.
— Вербовался, работал на стройке... Потом надоело (всё авралы, всё торопят: давай, давай, а я этого не люблю). И снова мешок на плечи — и дальше. Куда глаза глядят. На край земли. Война меня в лагере застала. Уж не помню, за что сидел. Не то за бродяжничество припаяли, не то за браконьерство. Ну, подал заявление — дескать, хочу на фронт. Уважили, и на самую передовую...
— С фронта дезертировал? — взглянул на него испытующе отец. Он лежал на спине, похудевший, заросший бородой, и не сводил с Абакумова взгляда. По-моему, у него была температура, он сильно раскраснелся.
Абакумов сидел на скамье, облокотившись на стол, и рассказывал, не глядя на отца, будто сам с собой говорил. Но при обвинении в дезертирстве взглянул на него обиженно и удивленно.
— С чего это вы взяли, Дмитрий Николаевич? Честно дрался с врагом, как и все.
— Не... дезертировал?
— Вот как перед богом. Хоть запросите!
Алексей Харитонович назвал полк, с которым прошел войну.
— Полк наш несколько раз заново обновлялся, а я все живу. Никакой снаряд меня не брал, будто я заговоренный. В сорок третьем попал в плен. Тут узнал, почем фунт лиха стоит. С тех пор слово «фашист» слышать не могу. Никак не забуду. Издевались очень. Бежал из плена... Кабы не я, не добрались бы до России. Пригодилось мне шатанье по тайге... Вывел всех. Прямиком через Карпаты шли.
— Ну, а дальше? — торопил отец, потому что Абакумов задумался и молчал.
— Дальше? Из плена-то коммунисты со мной ушли. Хорошо обо мне отозвались. С ними и пошел опять на фронт. На этот раз нашел меня мой снаряд. Хотели ноги отрезать... Обе. Не дал. Лучше умру. Отправили меня в госпиталь, в Рыбинск. Год лежал. Всё переливание крови делали. Пока поправился, война и кончилась...
— Ну?
— Ну и вот... За год, на койке валявшись, обо всем передумаешь. Противно мне стало. Как мог так жить, думаю... Дело в том, что прежде я был кто? Бродяга. А теперь стал — фронтовик! От радио пришел корреспондент, обращается ко мне:
«А у вас, товарищ фронтовик, какие заявки будут?» На концерт по заявкам, значит. И так мне захотелось настоящей, чистой, хорошей жизни!..
Абакумов опять замолчал. На лбу его выступили крупные капли пота. Отец смотрел на него с сочувствием, но уже не торопил... Я сидел на горячей печке и с нетерпением ждал, что же будет дальше.
— Кто выздоравливал, уезжали домой,—продолжал Абакумов.— Только и разговоров в палате: дом, домой, дома, жена, детишки, мать, отец... Каждый рассказывает, как у него на родине хорошо, лучше, чем у других.
— Ну?
— А я даже не знаю точно, где родился. Мать ведь не любила об этом рассказывать. Никогда не было своей крыши. Ни дома, ни родины, ни знакомых... Бобыль и есть бобыль! Опять идти куда глаза глядят? И вдруг встречаю в госпитале своего однополчанина, с кем вместе в плен попались, с кем из плена бежал. Колхозник он, сибиряк из-под Томска, Варнава Парфенович Лосев. Обрадовались, обнялись, как побратимы. Хороший человек!..
Скоро он понял, что со мной творится. И стал звать в свой колхоз. На первых порах, говорит, поживешь у меня. Потом оженим, избу тебе построим. Мужик ты, говорит, хороший. Будешь у нас в колхозе хоть по плотницкому делу. Поедем?
Я дал согласие. Его первым выписали из госпиталя, меня месяцев через пять. Адресок я хранил. Вот и поехал в это самое село Кедровое. И вправду вокруг кедры растут, высокие... Орехов сколько хошь собирай, грибов, ягод, рыбы в реке, зверя в лесу... Мне понравилось.