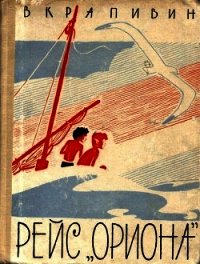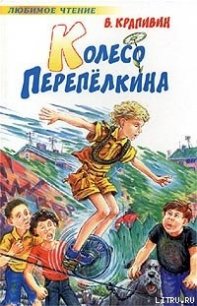Под созвездием Ориона (сборник) - Крапивин Владислав Петрович (лучшие книги читать онлайн бесплатно .txt) 📗
А интеллигентный мальчик Сережа в пионерском галстуке с блестящей пряжкой-зажимом (по форме того времени) тихо сидел у окна и читал книжку «Чапаев».
— Вот этого писателя, — с улыбкой сказала слегка бледная мама и указала зашедшему милиционеру на портрет, с которого по-командирски смотрел комиссар Фурманов. Милиционер подтянулся и козырнул — он был рядовой. А по поводу мальчика Сережи — отличника и сына известного в городе педагога — не могло быть серьезных подозрений.
Но если их не было у милиции, то у родителей были. У всех. Алиби не получилось. Отцы (те, кто еще не был посажен) и матери очень быстро раскопали правду. Рогатки были изъяты и сожжены. Затем наступил «воспитательный час». И по сравнению с ним полученная Вотей крапивная порция была все равно что комарик перед прививкой от скарлатины. Однако обычного в таких случаях рева и воплей «я больше не буду» из окон не слышалось. Воспитуемым было строжайше предписано «молчать и даже ни разу не пикнуть, а то хуже будет». Мол, услышат посторонние, догадаются, за что лупят несчастных Борек, Витек и Вовок, сообщат «куда следует», и тогда преступное деяние выплывет наружу. А это пахнет уже не ремнем, пострашнее.
Лишь самому младшему члену диверсионной группы третьекласснику Вовке Шаклину было оказано некоторое послабление. Сложивши вдвое потертый, «еще папин» ремешок, мать вздохнула и разрешила:
— Можешь визжать. Но только шепотом.
И Вовка визжал шепотом.
— Хотя это очень трудно, — жаловался он потом друзьям. — Попробуйте сами, узнаете.
Друзья пробовали визжать шепотом и признавали, что да, трудно. И жалели младшего соратника, хотя и сами для сидения на ступенях крыльца прилаживались с некоторым затруднением.
Только Сереже все сошло глаже, чем другим. Дело кончилось маминым подзатыльником (данным импульсивно, со страху). Отец же ограничился долгой воспитательной лекцией, прослушанной сыном вполуха. Он, наш папа, в педагогических вопросах придерживался принципов гуманизма.
У брата Сережи был друг Виктор Ножкин. Он жил в деревянном двухэтажном (вернее, полутораэтажном) доме через квартал от нас, на углу улицы Челюскинцев.
В дошкольные годы для меня то место (до которого дошагать можно за полторы минуты) было уже чужой территорией, иным миром. Вроде как сейчас другой город. Идти «в гости к Вите» значило идти далеко.
А еще дальше лежали совсем неведомые (в ту пору) кварталы. Потом-то, в школьные годы, я изучил их до каждого домика, до каждой калитки. И удивительную резьбу карнизов, крылечек и парадных дверей, и неожиданные изгибы улицы, которая порой выходила на край нашего знаменитого лога и становилась односторонней… Я знал на память жестяные таблички домовладельцев (написанные еще с «ятями» и твердыми знаками). Помнил узоры железных дымников на печных трубах… Но все это уже тогда, когда я был «большим». Школьником. А в первые годы жизни мне казалось, что родная улица уходит в неведомые дали.
Иногда судьба позволяла мне сделать в эти дали прорыв. Случалось, что кто-нибудь из приятелей Сергея сажал меня на раму велосипеда (чаще всего тот же Витя Ножкин) и катил далеко-далеко, аж до Перекопской улицы с ее Земляным мостом через лог. Там улица Герцена кончалась. Но я тогда в уличной топографии еще не разбирался. Просто, замирая от восторга и вцепившись в руль — рядом с крепкими пальцами хозяина велосипеда, я мечтал, чтобы счастье подольше не кончалось.
Велосипед потряхивало, сидеть на твердой трубчатой раме было неудобно, но все же радость была великая!
Движение велосипеда было похоже на бреющий полет.
Я быстро плыл над немощеной дорогой и видел, как из-под шины переднего колеса убегает назад по пыли тонкий змеиный След. Его рисунок состоял из маленьких кружков, соединенных в двойную цепочку. На никелированном ободе дрожало слепящее отражение солнца. И на руле, и на круглом звонке — тоже. Мне иногда позволялось посигналить этим звонком…
Но хотя и длинна была наша улица Герцена, счастье все равно рано или поздно кончалось. Чаще всего рано…
Вот уже едем обратно. Вот уже промелькнул крошечный домик с круглым «венецианским» окном (он и сейчас, по-моему, стоит там), вот и Витин дом проехали. Вот и наша серая калитка с чугунным кольцом и щеколдой… Как быстротечно в жизни все хорошее…
— Слезай, не канючь. А то больше никогда…
Да, я помню этот велосипед с пахнувшим кожей седлом и сверкающими ободами.
Я вообще помню многие предметы, которыми были знамениты приятели Сергея и Людмилы.
Например, у Моти (Матвея) был похожий на маленькую гармошку фотоаппарат. Этим аппаратом сделаны некоторые мои детские снимки. Футляр у аппарата был черный, оклеенный чем-то вроде, искусственной кожи, и с блестящим замком. Мне иногда его давали поиграть. И я воображал, что у меня в руках тоже аппарат. Ставил футляр на сложенную для моего роста треногу от Мотиной фотокамеры, накидывал на голову мамин платок.
— Внимание, снимаю!..
А у Милиной подруги Вали Елькиной был патефон. А еще у какого-то Сережиного приятеля — бинокль. Мне однажды дали в него посмотреть, но я ничего не увидел от возбуждения…
Только у нас ничего не было. Родители всегда еле сводили концы с концами. К тому же перед войной нашу квартиру обокрали. Из вещей, которые можно было считать относительно ценными, остался лишь папин письменный прибор из серого мрамора…
Зато у Сережи был пистолет-поджиг, который стрелял зарядами из спичечных головок.
Поджиг был сделан любовно. Ручка обточена, и на щечках ее вырезана тонкая решетка, чтобы оружие не скользило в ладони. А ствол из медной трубки был прикручен к рукоятке проволокой очень аккуратно — виток к витку.
Иногда Сережа и Володя Шаклин (если никого из взрослых не было дома) уходили на кухню стрелять из поджига. Я смотрел на это издалека, сквозь раскрытые двери проходной комнаты, потому что боялся выстрелов. Зажимал уши.
Но даже сквозь прижатые к ушам ладони удар выстрела ощутимо толкался в барабанные перепонки. И был синий дым. И подпрыгивал на старинной тумбочке пузатый самовар Шаклиных. А Сергей и Володя, сталкиваясь головами, разглядывали очередную дырку от пули в могучей двери, которая вела из кухни в сени.
Со временем этих пробоин от самодельных пуль накопилось много. Будто следы от древоточца. Дверь никогда не красили, и эти дырки сохранились, видимо, до последних дней существования дома. Так же, как следы моего детского рисунка мелом.
В сорок третьем году, обрадованный очередной победной сводкой Совинформбюро, я изобразил мелом на кухонной двери громадную медаль «За отвагу». С надписью. Писать печатными буквами я тогда уже умел. Никто этот рисунок не тронул. Ни тогда, ни долгие годы спустя.
Даже через двадцать с лишним лет, когда я заходил в гости к Шаклиным и снимал крохотной любительской кинокамерой тетю Лену, слабые контуры мелового рисунка еще были различимы на обшарпанной древней краске могучих досок. И пробоины тоже…
С той поры я внутри родного дома не бывал. Шаклины переехали, дядя Боря тоже, не к кому стало заходить. А потом дом снесли. Вместе со всем кварталом. Вместе с пекарней, от которой так заманчиво пахло в годы хлебных карточек (и с которой была связана драматическая история выбитых окон).
…Я все время отвлекаюсь. Написал заголовок «Оружие», а сам…
Ну так вот. Поджиг Сергея был знаменит среди мальчишечьего населения квартала. Но Сергей рассказывал потом, что еще больше знаменит был крупнокалиберный поджиг Вити Ножкина.
Свою огнестрельную систему Витя Ножкин (опять же по словам брата) собирал и отлаживал неторопливо и со знанием дела.
Затем наступило время испытаний.
Витя решил, что здесь нужны не спички, а серьезный заряд, и стянул у отца некоторую дозу черного охотничьего пороха.
Испытывали вдвоем с Сергеем в просторном сарае, который служил дровяником и кладовкой. Нервничали, конечно, ибо первая проба оружия всегда связана с риском. Мало того, атмосфера была даже слегка зловещая. Благодаря одному необычному обстоятельству. В полуподвальной каморке Витиного дома обитала древняя старушка, которая, предусмотрительно готовясь к кончине, заказала себе гроб и хранила его в сарае. Это некрашеное крепкое сооружение стояло у дальней стены вертикально, в открытом виде. Крышка — отдельно. Крышка прислонялась не к стене, а к торчащей из стены балке — верхним краем.