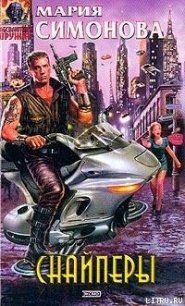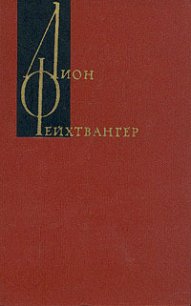Круг - Симонова Лия Семеновна (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
Оля научилась ловко передвигаться по ветхому мостику. Повзрослев, она сообразила, что разногласия между «стариками» куда более серьезные, чем простое выяснение отношений: «кто больше — кто меньше?» или осуждение «нелепых» привычек: «В таком-то возрасте (имеется в виду бабушка мамы) и ходить в брючках, да еще порхать на лыжах». Или: «На таких-то приемах и не научиться правильно держать вилку (это уже о бабушке папы)».
Прислушиваясь к взрослым разговорам, Оля узнала, что мамин папа — ученый — обвиняет папиного и других, «таких как он», во всех недостатках нашей жизни, которых он подмечает немало. А папин «старик» — партийный работник, — волнуясь, доказывает, отстаивает и наступает на маминого с претензиями к «хлипким» интеллигентам. И чаще всего они не могут понять друг друга, когда вспоминают трудные времена — коллективизацию, тридцатые годы или послевоенные, а особенно когда говорят о культе личности и о «исторической неизбежности».
— Вы хотели создать монолит, вы заботились о равных правах для всех в коллективе, — горячится дед-ученый, — честь вам и хвала. Но личность… В агонии вашего дела вы презирали личность. Вы ее уничтожали годами, десятилетиями.
— Вы слепой человек, — возмущается дед — партийный работник, — разве когда-нибудь прежде были созданы такие условия для расцвета личности? Мы голодали, мы мерзли в голых степях, в тайге и болотах, возводя гиганты индустрии, дороги и электростанции. Разве мы не добились успеха? Разве не выстоял наш монолит в годы войны? А о своих ошибках мы сказали честно и прямо…
— Сказали?! — с досадой нападает дед-ученый, — Но скольких мы недосчитались?! Разве они помешали бы успеху? С ними мы двигались бы вперед куда быстрее и разумнее… И войну выиграли бы скорее, с меньшими потерями… Но войны не станем касаться. Это особое время: там ясно, где враг, где свой и против чего бороться, что защищать…
Оля всегда внимательно слушает «стариков», но не может определить, кто из дедов больше прав? Выходит, в одно и то же отпущенное для жизни время они жили по-разному. И теперь мамин «старик» почему-то попрекает папиного, будто именно он управлял событиями. А сам-то он где был? Почему не возражал, не вмешивался, если ему так все не нравилось? И что значат эти слова, такие страшные своей непонятностью: «роковое время», «историческая неизбежность», «история не рассчитана на одну человеческую жизнь»?..
Когда Оля думает об этом, голова становится тяжелой и хочется поскорее вышвырнуть непосильную ношу из головы, избавиться от всего необъяснимого…
Но в школе, в разговорах с одноклассниками она никогда не показывает свою растерянность, никогда. Напротив, свысока дает всем понять, что знает нечто такое из первоисточников, о чем все остальные и не слышали. И в зависимости от обстоятельств повторяет суждения то одного, то другого деда.
Домашняя атмосфера вечного раздражения и недовольства всех всеми лишила Олю способности любить и уважать. По-настоящему преданно и безраздельно полюбила она только себя, единственную.
Жадно надеясь на лидерство, Оля мучилась в догадках, отчего же победа, едва померещившись, ускользала от нее? Почему все не устраивается так, как она задумала? И теперь вот вперед вырвалась Холодова? И даже эти, Клубничкина с Дубининой, значат для ребят больше, чем она?!
Человек совсем не глупый, Оля путалась в простом, житейском, не догадываясь, что секрет всего, что с ней происходит, в ней самой.
Раздражаясь, все чаще в мыслях натыкалась она на новенького, Прибаукина. Ей казалось, что именно с появлением этого «преподобного Вениамина» и начались для нее все сложности. И она все больше настраивала себя против него.
2
Поначалу и всем остальным в классе Вениамин Прибаукин не приглянулся. Определили: «темный парень». Умные книжки его не интересуют, в искусстве не сечет, на французском как только рот откроет, все покатываются со смеху. Говорить с ним о высших материях, а в классе поговорить любили, просто смешно.
Но среди них, привыкших, что никому ни до кого нет дела, Венька казался добродушным и непривычно компанейским.
Веньке ничего не стоило сесть рядом с девчонкой и, обняв на глазах у всех, шептать ей на ухо что-то таинственное. Поначалу девчонки смотрели на него с недоверием, некоторые, как Киссицкая, презрительно, но Прибаукина это не смущало. Он невозмутимо и щедро разбрасывал комплименты, которые самыми неведомыми путями попадали все же на благодатную почву и давали недурные всходы.
«Ах, Маша, какой у тебя цвет лица, я падаю!», «Ах, Олеська, какой миленький у тебя воротничок! А глаза! Зовут и дурманят!» Что уж там, нравилось это девчонкам. И даже Холодова удостоила Вениамина рассеянной улыбкой, когда он, вроде бы ни к кому не обращаясь, громко сказал: «Ну, дева, ты у нас просто Сократ!»
Прозвища, не обидные, но очень точно бьющие в цель, с легкой руки балагура Веньки плодились одно за другим, как грибы после теплого осеннего дождя. Ольгу Яковлевну стали называть Аленкой, Олю Дубинину — Олеськой, Олю Холодову — Сократом или Соколей, производным от Сократа и Оли, а Олю Киссицкую не Кисей, как ее именовали прежде, а Цицей — в честь древнеримского философа Цицерона. Хитрый Венька чувствовал враждебность Киссицкой, но и ее он старался смягчить, угадывая, что этакой философствующей гусынеприятно получить имя философа и, не дай-то бог, не отстать хоть в чем-то от Холодовой.
Награждая прозвищами многочисленных Оль и Маш, Прибаукин как бы поправлял время, так охотно уравнивающее всех, даже в выборе имен. Шутовствуя, как и все на свете шуты, он точно чувствовал ситуацию и людей.
Правдоискательницу Машу Клубничкину умиротворял, называя Малинкой, Машу Кожаеву окрестил Мадонной, Игоря Пирогова, почитаемого в классе больше остальных мальчишек, возвеличивал князем Игорем или просто Князем, и Пирогову это льстило. В предшествующие годы он был всего-навсего Пирогом или Пирожком.
Не наградив Прибаукина иными дарованиями, природа полной мерой воздала ему в умении покорять и привлекать к себе, и Венька ловко пользовался этим даром.
Сразу сообразив, что тягаться интеллектом с Игорем Пироговым или с его ближайшим другом Славиком Кустовым, да и с девчонками, такими как Сократ и Цицерон, он не сможет, Прибаукин безмятежно заявил:
— Дружбаны, скучно вы тут живете! Занудь! Песок из вас еще не сыплется? Жить надо современно!
— Современно, это как? — ехидно кольнула Холодова. — Пить, курить и орать: «В Союзе нет еще пока…»?
Прибаукин не опешил, не отступил, как нередко случалось это с другими в разговорах с Сократом, сказал простодушно:
— Ну, детка, ты меня удивляешь! Вроде ты и Сократ, а в банановых рощах путаешься! Современные девочки, детка, вместе с аттестатом зрелости волокут предкам тяжелый животик. Ты как насчет этого?
С Холодовой так развязно никто никогда не общался, и все замерли, не понимая, что последует за этим. Оля-Сократ будто смутилась, но если и так, то всего на мгновение, а в следующее прищурила холодноватые, острые глаза и бросила язвительно, как только она умела:
— Ну, Веник, — она тоже не промахивалась с прозвищами, — с тобой все ясно. Ты работаешь в облегченном весе. — И сразу ушла с выражением победоносной иронии на невозмутимом лице.
Больше Прибаукин никогда к ней не цеплялся, и она его не трогала, сохраняли устраивавший обоих нейтралитет.
Прибаукин не был похож ни на кого из мальчишек, учившихся в их классе, всякий раз он оказывался другим и всегда неожиданным.
Огромные часы, почти компас, надетые поверх рукава Венькиного школьного пиджака, сразу обратили на себя внимание. Даже те, у кого были свои часы, невольно обращались к Вениамину: «Сколько натикало?»
Он с невозмутимым видом отвечал:
— Десять копеек.
— Такие шутки? — взбесился Пирогов, первым попавшийся на удочку.
— Хочешь знать, сколько времени, гони десять копеек.
— Ты что, озверел? Такого я еще не слышал.