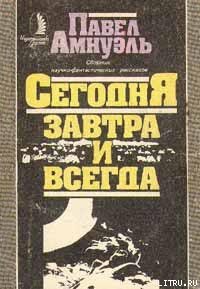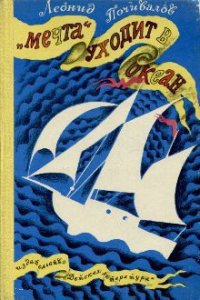Отчий край - Куанг Во (полная версия книги txt) 📗
У каждой семьи был свой огород, окруженный плотным кольцом деревьев. Для того чтобы из одного дома попасть в другой, нужно было обязательно выйти на улицу. От улицы дома отделялись оградой с воротами.
На островах же было совсем иначе. Там никаких ворот и улиц не было, и Островитянин мог бегать из дома в дом совершенно свободно. Хижина старого Зaу — их соседа, к примеру, стояла сразу за кухонной пристройкой, а дом Хыонгов впереди их дома и тоже без всякой ограды. Так что всегда было известно, что на обед у старого Зау, а уж ступой для риса, которая принадлежала семье Хыонгов, пользовались все. И если Островитянин иногда, свернувшись калачиком, засыпал в доме Хыонгов, это никого не удивляло.
Здесь же у каждого дома было помногу всяких строений: и хлев для буйвола, и курятник, и свинарник.
Во дворе у Бон Линя высилась груда сухих стеблей сахарного тростника. Жена Бон Линя выдергивала из нее сбоку стебли, чтобы топить очаг, и там образовалась такая большая дыра, что буйвол мог всунуть голову. А у дома дедушки Ука стояли заросли желтой акации, и туда отовсюду слетались бабочки.
В Хоафыоке никогда не было тихо, и не только потому, что лаяли собаки, хрюкали свиньи, кудахтали куры, пели птицы, кричали дети, но и потому, что в доме Кыу Канга безостановочно стучал ткацкий станок, а с поля несся треск колотушки, которой ребята отгоняли от посевов зеленых попугайчиков.
Едва спускался вечер, как повсюду начинали трещать цикады, шелестели распускающиеся листья и травы.
Островитянину казалось очень смешным, что у нас в Хоафыоке кур и свиней подзывали иначе, чем у них на острове. Но ведь наши куры, едва услышав привычный им крик, тоже стремглав неслись за своей долей зерна! Вдобавок Островитянин был совершенно уверен в том, что в Хоафыоке говорят очень неразборчиво, а вот на его острове говорят так, что каждое слово всем ясно и понятно.
Дядя Туан, ведя нас с Островитянином за руки, прошелся по селу. Встречные во все глаза смотрели на Островитянина. Дядю Туана тоже никто из них не узнавал. Дядя Туан сказал нам, что большой фикус, росший у околицы, остался точно таким же, каким был когда-то, а вот деревья рядом стали намного выше. Каменная плита у начала спускавшейся к реке дороги оказалась на старом месте. Когда-то дядя Туан, выходя в поле, непременно точил о нее свой косарь. И в поле вела все та же дорога, густо заросшая по обеим сторонам бурьяном. Сколько когда-то было по ней хожено! Дяде Туану припомнилось, как, бывало, неся на коромысле корзины, полные тутовых листьев, шел он по этой дороге, а следом шла жена, держа в опущенной руке снятый с головы нон [16].
Дома были плотно укрыты тенью от зарослей бамбука и пышных крон митов. На тропках, ведущих к ним, сидели рыжие и пятнистые собаки. Они пристально смотрели на Островитянина, а потом длинно зевали, показывая полные белых острых зубов челюсти. Все таким же замшелым, как когда-то, был старый динь, все таким же тихим — храм феи Шелка. Словно большой зонт прикрывал его стоящий рядом баньян, все так же стояла перед ним каменная ширма с лепным изображением полосатого, с выпученными глазами тигра.
Дядя Туан сказал, что вот так же, как остались после его ухода незыблемыми крыша диня и большой баньян, останутся навсегда тутовые рощи, река и поле. Уйдет одно поколение, его заменит другое, но гора Тюа, холм Котaнг будут стоять без всяких изменений. Там, на далеком острове, он не мог забыть и редкий дождик над тутовником, и дымок над соломенными крышами. Просыпаясь по ночам, тревожно ворочался, словно слыша в ночи знакомое поскрипывание бамбука и чью-то колыбельную песню…
Так же величественно, как и пятнадцать лет назад, опускался закат. Над рекой расползалась тонкая, легкая пелена прозрачного тумана. Смутно темнели вдали горы — Котанг и Тюа. Лунный серп сполз вниз и зацепился за ветви бамбука, клонящиеся под влажным, летящим с моря ветром.
Дядя Туан шел проведать Бай Хоа.
— Ай да Туан! Вот так Туан! — едва завидев нас, закричал Бай Хоа.
Это должно было означать: «Вот радость какая! Какая радость!»
Тут же, поднатужившись, он поднял и вынес во двор бамбуковый лежак — здесь было не так душно.
— Молодец Туан, что вернулся, — улыбнувшись, сказал он. — Теперь силу набирай. Тряхнем с тобой стариной, будем в борьбе состязаться!
Он зашел в комнату, положил на поднос связку нанизанных на веревку табачных листьев, взял из кухни глиняный горшок и бросил в него несколько раскаленных углей:
— Туан, кури, прошу!
Островитянин с любопытством оглядывался вокруг.
В доме Бай Хоа было три алтаря предков. На центральном стояла картина, изображающая Будду, восседавшего на лотосе и устремившего глаза на живот. Перед Буддой лежал колокольчик и колотушка с широким и длинным отверстием, напоминавшим лягушачий рот. Рядом были подвешены драконы и единороги, сделанные руками самого Бай Хоа: он где-то раздобыл множество скрюченных, искривленных, покрытых отростками корней бамбука, привязал к ним волосы и паклю, и они превратились в диковинных чудищ.
На столике справа стояли картинки, изображавшие ужасы царства мертвых. На первой картинке в печи пылал огонь, и на нем стоял чан с кипящим маслом, в котором два белоглазых клыкастых черта костылями топили грешника. Бай Хоа рассказывал мне, что это тот грешник, кто при жизни на земле часто врал. Значит, достаточно раз соврать, чтобы тебя сварили? А я ведь тоже однажды обманул свою сестру, сказав, что поведу буйволицу Бинь в такое место, где много травы, а на самом деле убежал с пастушатами играть в «дергача»! Если верить Бай Хоа, то подземный владыка наградит меня купанием в котле с кипящим маслом. Ну, а Ты Банга из нашего села, который так ловко врал, что хоть сказки за ним записывай, — того-то сколько раз надо так окунуть?
На второй картинке волосатый черт держал за горло извивавшегося в судорогах человека. Другой черт, не менее волосатый, надвое распиливал грешника. Бай Хоа говорил, что распиливают тех, кто при жизни залезал в чужой сад и таскал тайком фрукты.
В саду Бай Хоа росла гуайява, плоды ее были хотя и мелкими, но очень ароматными, с белой мякотью, и не успевали вы доесть один плод, как вам тут же хотелось еще. Вот я и был тем самым грешником, который залезал в сад к Бай Хоа и рвал себе и мальчишкам его гуайявы. Итак, уже сваренного в кипящем масле, меня должны были еще и распилить надвое.
На третьей картинке голый грешник сидел на раскаленном железном листе. Бай Хоа говорил, что это наказание за убийство животных, рыб и птиц по запретным дням. Значит, мою маму, вместе с сестрой, поджарят на таком листе, они ведь готовили рыбу всегда, когда она ловилась, не разбирая никаких дней.
На четвертой картинке черти вонзали иглы в язык человека, которого они предварительно связали. Язык у человека был длинным-предлинным — так тянули за него черти. Бай Хоа объяснил, что этот грешник при жизни посылал хулу на Будду и на небесного владыку. Если так, то нашим деревенским обязательно всем вытянут языки: они ведь тоже не сносили беду молча, особенно если надолго задерживалась жара или, наоборот, беспрестанно шли ливни.
Были и другие наказания: выкалывание глаз, отдача на растерзание тигру или слону. Их было так много, что всех не перечесть.
Островитянин, увидев эти картинки, задумался. Еще у себя на острове он, не разбирая дни, бегал ловить рыбу и потом с удовольствием ее уплетал, частенько обманывал отца и удирал играть, а что касается хулы, которую он возводил на Будду, то ее количество невозможно было и подсчитать.
Когда-то, при взгляде на эти картинки, меня охватывал ужас, но со временем моя робость прошла: при таком обилии грехов я начисто лишился совести и уже ничего больше не боялся. Иногда я приносил Бай Хоа семена стручковой фасоли, или люффы, и Бай Хоа тогда говорил, что небесный владыка и Будда непременно пересмотрят свое отношение к такому доброму мальчику и часть грехов будет мне отпущена, а он, Бай Хоа, позволяет мне залезть на гуайяву и набрать хоть целый мешок плодов.
16
Нон — конусообразная шляпа, сплетенная из пальмовых листьев.