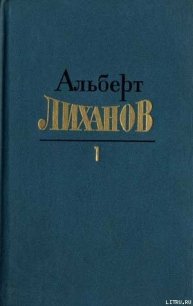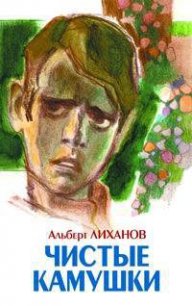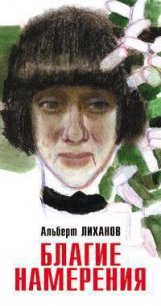Последние холода - Лиханов Альберт Анатольевич (прочитать книгу txt) 📗
– Пода-айте, ради Христа! Пода-а-айте, ради Христа!
У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким довеском, и она тут же съедала его, громко чавкая и не переставая причитать свое:
– Подайте, ради Христа!
И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то на меня, то на Вадьку и спрашивала:
– Ну? Что? – И снова: – Ну? Что?
В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку.
– Отнимете? – спросила она, стараясь затолкать морковку в рукав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались ее. – Отнимете? – спрашивала она. И кивала головой.
– Да нет, бабуш! – ответил ей спокойно Вадька. Он и нищенки не боялся, смелый человек. – Не отнимем!
Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в рукав. А мы пошли дальше.
То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к весне цена на картошку повысилась и продавщицы обращались с ней очень осторожно, но нам не повезло.
Ничего мы не нашли.
После рынка мы зашли к Вадьке домой.
Никогда я еще не видел такой убогости! Комнатка, правда, вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестницей трехэтажного коммунального дома. Зато две железные батареи грели вполне исправно, и я подумал, что это все-таки большое счастье: не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где. Правда, посреди комнаты стояла еще «буржуйка», голенастая и длинная труба которой выходила прямо в форточку, заделанную для этого железным листом. На «буржуйке», наверное, готовили обед, или, может, она требовалась, когда не было топлива в котельной. Прямо на печурке, на верхней ее крышке, стояла керосинка.
Но все остальное!
В комнате было две кровати. На одной матрац лежал свернутым, открывая вместо пружин неструганые доски, на другой поверх матраца валялось скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпиталях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже не было.
У окна стоял дощатый, сколоченный из струганых досок стол, на нем, прямо по центру, красовался старый угольный утюг, а на краю, одна в другой, кособочились две дюралевые миски с ложками.
При входе взблескивали умывальник и ведро, а с потолка свешивалась на проводе голая, без абажура, лампочка.
В общем, я был уверен: заведи сюда с улицы десять случайных прохожих и спроси: живут ли тут люди, девять покачают головой: мол, может, и жили когда-то, но давно уже не живут.
К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой. Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет, стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый класс пошел, приказ этот отменили, и хозяйки с такой радостью принялись их отдирать, отскребать ножичками, отмачивать водой, что самый несмышленый понял: все, враг до нас не доберется.
И только тут, в комнате под лестницей, было как в начале войны.
Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свернутый матрац: мужчина и женщина.
Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Вадькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще с довоенной поры, на двух улыбающихся человекоподобных кукол.
Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, потом открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черствого хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара.
– Чуешь? – спросил он меня. – Все еще воняет.
Вот-вот! Самое главное, что делало комнату нежилой, – запах хлорки, смешанный еще с чем-то, более едким и таким же больничным.
– Как маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли, – сказал он. – Приехали санитары. Почему-то в черных халатах. Белье забрали и увезли, матрацы хотели сжечь, да, видно, нас пожалели, а в комнате так набрызгали из каких-то банок, что мы, ей-богу, чуть не преставились.
Он сидел у стола, не раздеваясь сам и не предлагая снять пальто мне – до того тут было неуютно.
– Вадь, – спросил я, – ну а кресты-то на окнах почему не смоете?
Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом и какими-то взрослыми словами.
– Видишь ли, – сказал он и опять помолчал. – Это мама. Ей кажется: когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка жив. – Он покачал головой, едва улыбнулся. – Я ей объясняю, что скоро войне конец, а она плачет и говорит: «Не хочу! Не хочу!»
– Не хочет, чтоб войне конец? – удивился я.
Он снова покачал головой.
– Не хочет, чтоб отец умирал.
Вадька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие, неживые лица отца своего и мамы, и, ясное дело, ему совсем другое виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он перевел взгляд на меня:
– Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом все говорит. Смеется. Будто во сне все это. Потом проснется, нас увидит и плачет. – Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить мне что-то очень важное, потом сказал: – Ты знаешь, она даже салютам не радуется. – Вадим снова замолчал. Сказал, как старик: – Боюсь я за нее.
Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что боятся за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном тротуаре. Но за маму я не боялся – никогда не боялся. Жалел ее, это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться?..
Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпитале, получала карточки как служащая, строго спрашивала мои уроки, пробирала, а если требовалось – она походила на энергичный мотор, который крутит всю нашу жизнь – и бабушкину, и, особенно, мою. Да что там! Мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово. И надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и его заботами.
Нет, я не боялся за маму! Она была моей защитницей, моей кормилицей. И я не боялся за нее, нет! Разве боятся за силу и справедливость?
А вот Вадька боялся. Выходит, его мама была слабей, чем он?
Может ли так быть?
Я не знал. Это было слишком серьезно для меня. Слишком.
Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о таком, чего я не знал.
Не знал, это не значит – не понимал. Понимать понимал, но разве все? Маленькую частичку…
Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом. Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно. Но вижу лишь его.
Что происходит в доме, мне неведомо.
Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, и все будет прекрасно. Потом подождем Марью и к вечеру поедим у нас. Как велела мама.
Вадим тоже спешил в восьмую столовку. Он забеспокоился, заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба, корками да плиткой жмыха сыт не будешь.
Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вчерашний день.
– Вадь, – спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл выяснить самое главное. – Как ты не побоялся? Вчера-то? Против целой шайки?
– А-а, – вспомнил он. И вдруг брякнул такое, что я опешил: – Не знаю.
– Как «не знаю»? – поразился я. – Чуть не задушил этого Носа, а сегодня не знаешь!
– Голодный был, – усмехнулся Вадим. – Вот сегодня не смог бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уже в ушах звенело. Думаю: «Черт с ним, все надоело». Ну и вцепился. А что делать?
Я крутил головой, рассказывал в лицах, как Нос сначала грозился, пугал, а потом плакал и как победитель Вадька вдруг поехал вниз по забору и – раз! – в обморок. После победы-то. И как тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке.