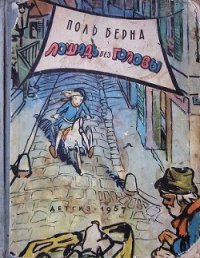Под тёплым небом - Кузьмин Лев Иванович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
Колхозную рожь на заготовительном пункте сдали скоро и тут же поехали домой.
Пока рожь сдавали — всё молчали.
Едут они по кривым, обратным переулкам и теперь молча.
Дедушка сидит нахохлясь, думает о том, что зря вот он сунулся в воду, не спрося броду, зря понадеялся на давние слухи и поехал на рынок, ничего загодя не разведав; а Борька сидит к нему спиной, тоже думает о чём-то о своём.
И лишь Карюха устало, но громко, нет-нет да и фыркнет на ходу, как бы стараясь этим подбодрить и себя, и своих печальных седоков.
А когда выбрались на главную улицу, на самый верх её, когда стало видно внизу и знакомый переезд со шлагбаумами, и каменный вокзальчик вдалеке и другую, тоже выбегающую тут к переезду дорогу, то дедушка поворачивается к Борьке, конфузливым, тихим голосом говорит:
— Чего уж теперь… Чего уж… Ты, Борька, не расстраивайся.
И подпихивает пестерь к внуку ближе, отстёгивает крышку:
— Вот, поройся-ка в сенце-то да яблочко вынь… Вынь, вынь! От одного не шибко и убудет…
Но Борька, не поднимая лица от острых коленок, лишь медленно поводит своим низко нахлобученным малахаем: «Отстань, дедко… Не надо… Не хочу…»
— Ну и правильно! Ну и правильно! — суетливо и моментально соглашается дедко. — Очень даже правильно. Мы ещё, знаешь, куда с ними махнём? Мы в Батурине махнём. Там рынок должен быть, там — людней.
И сперва всё с той же виноватинкой в голосе, а затем и расходясь всё больше, и утешая уж не столько внука, сколько самого себя, он шумит:
— Этот долдон-караульщик тоже хорош! «Настояшшова го-оря ты, паря, не видывал… Настояшшова го-оря ты, сокол, не знаешь…» Тьфу! Это я-то не знаю? Это мы-то не видывали? Нет, видывали, знаем, и даже терпеть умеем! Верно, Борь, верно? Вот то-то! А яблочко одно всё ж таки возьми…
И, не обращая внимания на то, что Борька на него не смотрит и ничуть ему ни в чём не поддакивает, он лезет рукой под крышку пестеря в сено, долго роется там, и вот вынимает очень крупное, очень спелое, очень тяжёлое яблоко.
Яблоко так чудесно, что дедушка и про Борьку на миг забывает, и забывает про всё.
Приходит он в себя лишь тогда, когда слышит рядом с собой топот чужих коней и скрип незнакомых полозьев.
С той, с другой улицы, со стороны вокзала на общую дорогу у переезда втягивается очень длинный обоз, и дедушка, спохватясь, дёргает вожжи, думает проскочить вперёд.
Но шлагбаум на этот раз предусмотрительно закрыт, и головная лошадь обоза, и ходкая Карюха чуть ли не упираются в этот шлагбаум хомутами.
— Тпру-у… — катятся по всему обозу всё дальше и дальше к самой последней, к самой дальней подводе звонкие на холоде голоса, и дедушкины сани почти сталкиваются грядок о грядок с такими же широкими чужими розвальнями.
С них спрыгивает женщина-возчик, бежит к своей лошади, берёт её под уздцы, а дедушка как сидит, так и остаётся сидеть на своём месте.
Он остаётся сидеть потому, что видит: прямо перед ним, прямо вот тут вот на чужих санях, так близко, что и рукой дотронуться можно, вдруг начинает шевелиться высокий ворох толстых, тёплых укуток, и оттуда тихо, робко выглядывает маленький мальчик.
Он маленький и очень слабый. Он похож на одинокого птенца в гнезде, он такой заморённый, что дедушка перепуганно охает, привстаёт, почти беззвучно говорит:
— Ох, голубь ты мой милый! Да ты хошь откудова?
А Борька на мальчика смотрит тоже, и тоже хочет спросить: «Ты чей?» — но видит, что тёмные, огромные глаза мальчика глядят совсем и не на него — не на Борьку, и даже не на дедушку, а на позабыто опущенную дедушкину ладонь, на красное, сочное яблоко в этой ладони.
— Отдай, дедушка… Вместо меня ему отдай… От одного, сам говорил, не убудет… — торопливо шепчет Борька, но и тут же опять замирает.
Замирает оттого, что видит теперь: почти вплотную с тем мальчиком возникает ещё и девочка, и ещё одна девочка, и ещё мальчик, и ещё, ещё…
Они тоже глядят на яблоко, а со следующей подводы, и со второй, и с третьей, и с четвёртой, не только глядят, а уже и подают негромкие голосишки:
— И нам, дедушка… И нам…
И вот стоит дедушка Ложкин в своих санях с яблоком в руке, стоит над полуоткрытым пестерем и не знает, что делать. Не знает, что подсказать дедушке, и Борька.
А уже к переезду, всё сильней ухая и грохая колёсами по стальным рельсам, мчится поезд.
Он грохочет так, что у переезда начинают вздрагивать закрытый шлагбаум и вся вокруг в белых сугробах мёрзлая земля.
Огонёк

В самый разгар войны окончил я школу-семилетку и тут же решил: «Отец мой в солдатах, а я пойду в трактористы, в колхозные пахари. Там тоже фронт! Хотя и трудовой… А заодно, — подумал я, — матери помогу. Малышни у нас в доме уйма, все есть-пить просят, матери одной нас не вытянуть…»
Как надумал, так действовать и начал. Загвоздка была только в том: годков-то мне набежало едва четырнадцать. Но тут я пошёл на отчаянное враньё, в отделе кадров машинно-тракторной станции сказал:
— Это у меня лишь справка о рождении потеряна, а так мне давно шестнадцатый!
Кадровичка, сухонькая старушка, пожала плечами:
— Дело не в справке… Кто тебя безо всяких курсов за руль посадит? Никто, ни в жизнь! Да и трактора с трактористами давно в бригадах на весновспашке… Где раньше был?
— В школе был! — не отступаюсь я. И так уговариваю взять хотя бы плугарёнком, подсобником, что кадровичка не выдерживает, говорит:
— Стукнись к директору…
Что ж, иду к директору.
Стучаться, правда, к нему не пришлось: дверь к нему чуть не настежь. Да и сам он — дядька вроде бы ничего. Видно сразу: кто-кто, а он-то побывал уже и на самом настоящем фронте. Вместо правой руки — пустой рукав под ремнём гимнастёрки; по лицу — будто раскалённой железиной шаркнуто. Но брови, а главное глаза, целы; он смотрит на меня весело, даже с интересом.
Более того, когда я начинаю и ему заливать про справку, он даже этак одобрительно кивает: «Продолжай, мол, продолжай!», и я бyхаю напропалую:
— Думаете, если я не кончал курсов, так трактора забоюсь? Я на тракторе езживал не раз!
— Неужто?
— Факт! С Громовой, с Валентиной.
— Хорошо! — улыбается директор. — Она, Громова, представь себе, тоже здесь… Приехала за горючим из бригады.
И директор оборачивается к окошку, толкает левою, единственной своей рукой раму, кричит куда-то вдаль мокрого, весеннего двора:
— Громова! Валентина! Ты ждёшь всё? А ну, загляни ко мне, тут твой старый знакомый появился!
И опять мне вроде как подмигнул, а я так и присел. Я ведь эту Валентину назвал наобум. Назвал только потому, что она из нашей деревни и когда-то, ещё до войны, бегала со мной в одну школу. Но бегала в классы старшие; я и тогда ей был почти никто, лишь сбоку припёка, а теперь и вовсе — поздороваемся где-нибудь на встречной дорожке да и конец!
Что же касается совместной езды на тракторе, так и тут я езживал всего лишь навсего на один-единственный манер. Валентина рулит, бывало, по деревне на своём шипастом ХТЗ, а ты, как стриж, вылетаешь из-за угла и, не утруждая себя лишней просьбой, вспрыгиваешь на буксирную скользкую скобу, и виснешь там, пока Валентина не обернётся. Ну, а когда обернётся — отыгрывай немедля назад! А то получишь крепкую оплеуху…
Вот, собственно, и всё моё приятельство с Валентиной, всё моё с ней трудовое содружество. Вот я в испуге и присел.
Смелость из меня вылетела, как воздух из мыльного пузыря. Хлоп — и нет! Я вмиг чувствую, какой я маленький, какой я здесь, в конторе, нелепый — шкет шкетом.
Я ёжусь: «Валентина сейчас войдёт, про сказки мои услышит, отвесит по старой памяти мне затрещину да и отправит несолоно хлебавши домой…»
А она — входит, она — тут как тут.
Я глаз на Валентину не поднимаю, я смотрю в пол.
Но от её промасленной спецовки меня так и опахивает крепкой тракторной гарью, просторной улицей, влажным ветром.