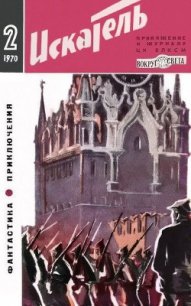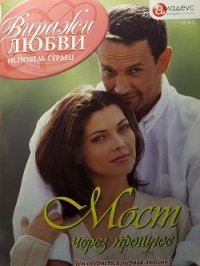Мост через овраг - Корпачев Эдуард (читать книги без регистрации полные txt) 📗
На катке уже никого не было, раздевалки были пусты и тихи, всё кругом казалось странным, похожим на покинутый экспедицией арктический городок. Только где-то переговаривались рабочие — наверное, они готовили шланги, чтобы снова залить каток.
Инга спрыгнула на лёд, осторожно побрела, побрела. Поле было исчёркано коньками, всё в бугорках-наметах желтоватой снежной пыли. А в центре во льду зияла глубокая расселина. Свет фонарей попадал в расселину, отражался, бил из неё самоцветной струёй. Инга ощутила, как холодит бесплотная сверкающая струя щёку.
А когда она подняла глаза, то вдруг увидела вблизи на трибуне тёмное пятно. Сначала подумала, что это от света: всегда появляется в глазах пятно, когда смотришь на нестерпимо яркое.
Потом узнала, что это человек.
Недвижные, опущенные книзу плечи, и светлый берет, и чёрные перчатки, лоснящиеся под светом, и вся фигура так приковывали внимание, что становилось страшно. Инга медленно двинулась к человеку.
Под ноги попадали ледяшки, хрустели, звенели под её ногами, и вспоминался Инге музыкальный бой остеклённых часов на почтамте. Может быть, и теперь часы отмечали время, отмечали с глубинным таинственным бульканьем, отмечали не только в Минске, а в Праге, Токио и Оттаве — всюду.
Как объяснить всё это: ожидание счастья, первую беду? Как объяснить не матери, а себе, что она идёт по льду катка, в январе, поздним вечером, идёт робкая и тихая, совсем не королева, идёт к Капитану — человеку, который почему-то стережёт покинутый арктический городок?
Как объяснить всё это?
Беженка с детьми
Снова пробежала, шурша в поросли цикория, немецкая овчарка и глянула в погреб сквозь щелястый дощатый наклонный люк маленькими, как лесные орехи, шоколадными злыми глазками, — глянула пустовато, как глядят в ничто, и пропала наверху бесследно, лишь закачался с жёстким шорохом цикорий, раскидывая над собой неслышные взрывы пыли и опять принимая пыль на свои нестерпимо синие, с раздельными, стрекозьими лепестками цветы.
Овчарка была злая и добрая, чужая и своя, потому что не могла она не разглядеть, когда обращала узкую морду к погребу, там, в потайных сумерках погреба, за веретёнами, напуганное до озноба, не дышащее, но живое семейство: её, беженку из Барановичей, и детей — шестилетнюю девочку, и старшего мальчика, которому было четыре с половиной года, и среднего мальчика, которому было три года, и младшего мальчика, который родился за неделю до этого страшного нашествия.
Женщине казалось уже, что овчарки она боится меньше, чем людей в зелёно-серых мундирах, но каждый раз, когда жестяно шелестел цикорий и возникала собака со злобным взглядом, женщина ладонью прижимала млечный рот младенца — даже если младенец не кричал, потому что в погребе становилось уже сумрачно и не всегда можно было угадать, расколется ли мгновенно гримаскою личико грудного. Оно сначала как бы покрывалось трещинами, а уж потом грудной заходился плачем, и остальные дети вздрагивали, девочка прикусывала губу и гневно смотрела на грудного, а старший мальчик подпирал ладонями щёки и сидел понурясь, как старичок. Больше всего опасалась беженка, что дети вдруг возненавидят грудного, а ей надо сохранить и защитить всех четверых, и у неё самой всё кричало, кричало внутри, когда ощущала она, как вспухает вдруг и студенисто дрожит под ладонью личико грудного.
Она отняла влажную ладонь, но на этот раз младенец молчал, и девочка всё ещё хмуро косилась на него, ожидая плача, а старший мальчик сидел всё так же понурясь — бедный четырёхлетний старичок. Женщина поняла, что грудной истомился криком сам и остальных истомил, и у неё вырвался вдруг вздох, точно её толкнули в спину, и она сказала незнакомым, тоненьким, молящим голосом:
— Дети, ну что же вы, дети! Идите же все ко мне, дети. Есть хотите, деточки? Мы ночью накопаем картошки или нарвём яблок или гороху…
— Мы не хотим есть, — посмотрела на неё неподвижными, большими, взрослыми глазами девочка, перевела взгляд на среднего мальчика, не дала тому и рта раскрыть, заговорила сама быстро-быстро: — У, грязнуля, молчи уж! Какие цыпки нарастил на ногах. Цып-цып-цып, цыпки! — и засмеялась в ладошку, и журчливый смех отозвался в сердце беженки и тронул её губы слабой, неверной, кривоватой улыбкой.
С этой неумелой улыбкой беженка коснулась лбом веретена, закрыла глаза и постаралась представить всё так, как было раньше, до нашествия, но жизнь в городском, с белым лепным, будто гипсовым, потолком и белыми же изразцовыми печами доме показалась очень роскошной и беженка тут же согласилась жить в селе, в хате тётки Алёны, пускай в этой замшелой милой хате, лишь бы всё оставалось так, как было до нашествия, да лишь бы журчал весною, осенью всегда трогательный смех девочки — ах, как давно не слышала она смеха и как страдала, что в горле девочки пересох чудный ручеёк, пересох от голода и страха!
Но вот женщина открыла глаза, увидела детей и погреб, заставленный веретёнами, в котором она укрылась, как только немецкие машины стали подъезжать к селу. Тётка Алёна хватала её за руки и не пускала бежать, тётка Алёна говорила, что дети — её спасение и что даже зверь не тронет женщину с грудным дитём, но она вырвалась и бросилась к этому погребу, приклеившемуся на бугре среди цикория и других отцветших ломких трав. Вражеские самолёты бомбят города, убивают городских детей, — и кто пощадит её, беженку из города? Она молода, ей нет и тридцати, и даже два голодных, бездомных месяца не состарили белое лицо, — кто пощадит её, беженку? Она глядеть не могла на серо-зелёные мундиры, на оловянные пуговицы, её поташнивало при виде этих нелюдей, — и нелюди почувствуют её ненависть и страх и не пощадят, не пощадят!
Вдруг закричал и забился ребёнок, женщина стала укачивать его, и детский пронзительный голос вылетал толчками, и женщина не сжимала грудному рот, потому что грудной мог заголосить ещё отчаянней, и девочка, обречённо глядя сквозь щели круглого, каким закрывают бочки, люка, сказала:
— Ох, мучитель!
Но цикорий на бугре не шелестел, не продиралась сквозь его жёсткую поросль чужая — а может, своя — собака, не ломились в погреб солдаты в серо-зелёной форме, и можно было оставаться беженке спокойной, как её старший мальчик, её четырёхлетний мудрец. Женщина хотела дать младенцу грудь, но боялась, что ребёнок лишь покусает-покусает дёснами и раскричится ещё злее, но тут маленький сам затих, и она сказала себе, что фот и вновь спасены — до захода солнца, до ночи или до утра? Как бы там ни было, они оставались живы и не хотели есть, им надо дождаться темени и уходить, уходить. Они привыкли скитаться, они всё лето куда-то бежали, а тут уж недалече до тех мест, где родина мужа и где — надеялась беженка — их приютят.
Она выбралась из-за веретён и осторожно шагнула к шершавому деревянному кругу, наклонно лёгшему у входа в это летнее хранилище прялок.
Солнце уже где-то садилось и просвечивало на бугре каждую травку, каждый стебель и маленькие голубые пропеллеры цветов цикория.
Она была одна, детей было четверо, а мужа не было. Муж остался где-то на барановичском вокзале — полнолицый, гладкий, интеллигентный, такой интеллигентный, что она проклинала теперь его неприспособленность и то, что эвакуировал её при пустых руках, почти без вещей. Она и не взяла бы никаких чемоданов, у неё не хватало рук держать подле себя четыре кровинки, но уже тогда её ранил уверенный мужнин голос: «Всё обойдётся, через две недели вернёшься».
И пока скиталась она дорогами беженцев, пока хоронила своих четверых столько раз и столько раз воскрешала, всё слышался ей уверенный мужнин голос, который становился всё неотвязчивей, всё трагичнее: «Через две недели вернёшься». Если бы знала она теперь, что будет тьма таких долгих, вечных недель, то и не бежала бы никуда, потому что всё равно впереди не было жизни, а только страдания, голод, слёзы.