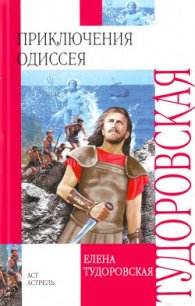Моя одиссея - Авдеев Виктор Федорович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
— Приходи завтра, Боря! — кричал тезка, провожая меня до двери. — Ладно? Я учусь во второй смене с часу дня. Как проснешься — сразу ко мне, у нас и чай попьем. Можно, папа?
Профессор улыбнулся.
Чудные на свете бывают буржуи!
Ложась спать на полу в Михайловской комнате, я тоже мечтал, чтобы поскорее наступило утро и мы с Борей Кучеренко могли продолжать морской бой.
…Четыре дня спустя, в субботу, мы с доктором Михайловым подъезжали к дачной станции Клавдиево. В сумерках за льдистым вагонным окошком качались посиневшие сугробы, вешки, занесенные снегом. Полупустой состав погромыхивал на стыках, я крепко держал под мышкой толстенную книгу «Дон-Кихот», которую взял «перечитать». Что-то ждет меня впереди? Каковы эти Сидорчуки, которых я сейчас увижу?
Насунулся сосновый бор, между стволами забегали золотые огоньки, приблизились вплотную и застыли.
На тускло освещенном перроне нас встретил высокий сутулый мужчина с заиндевелой бородкой, в форменной железнодорожной шинели и в очках. Доктор Михайлов поцеловался с ним — щека в щеку, и я догадался, что это и есть начальник станции Сидорчук. Я неприметно выпрямился, чтобы казаться повыше ростом, и принял солидный вид.
— Вот это новая родня? — с неловкой ласковостью сурового человека наклонился ко мне железнодорожник и протянул руку. — Ну, давай знакомиться.
Я постарался пожать ему руку крепко, по-мужски; кажется, он этого не заметил.
Сидорчук сказал дежурному по станции, что уходит домой. Мы тронулись через длинную поселковую улицу. Над головой в черной воздушной пропасти роились огромные звезды. Сколько времени я их не видел в залитом огнями Киеве! По синей, пробитой в сугробе тропке свернули к насупленному сосновому бору и минут двадцать спустя стучались в дверь закутанного снегом дома, сквозь ставни которого уютно пробивались оранжевые полоски света.
В теплой передней нас встретила вся семья, даже вышел толстый, балованный кот с пышными гетманскими усами. Нас ждали и сразу повели в гостиную за обеденный стол. На тарелках задымился украинский борщ с бараниной, обильно сдобренный сметаной и удивительно вкусный. Спускавшаяся с потолка бронзовая лампа в розовом фарфоровом абажуре ярко освещала приземистую хозяйку в кофте навыпуск, с добрыми морщинами у поблекшего рта и с жиденьким узлом седеющих волос на макушке; жену доктора Михайлова — «Верушу» — с карими смеющимися глазами, вздернутым носом и с золотым медальоном на молодой, обтянутой шелком груди; рослую девочку с льняными косицами и наивно полуоткрытым ртом, заметно выросшую из голубенького платья, — младшую дочку хозяев, Наталку. Блюда подавала глухонемая прислуга — красивая раздобревшая женщина в украинской расшитой сорочке с пышными рукавами и в красной юбке со сборами.
Сытостью, покоем, непривычным для меня уютом дышали тонущие в полумраке стены, диван, обтянутый белым, аккуратно заштопанным чехлом, старинный пузатенький буфет с золочеными рюмками, расписные фарфоровые тарелочки, повешенные в простенках. Мне радушно подкладывали со сковородки жаркое, подрумяненную картошку и были довольны моим аппетитом.
Из допросов домашних я наконец понял, каким образом попал к доктору Михайлову. Оказывается, ему обо мне рассказала Софа — толстая родственница Боярских, похожая на будку справочного бюро, — на свете много сердобольных людей. Новые опекуны считали, что я из богатой московской купеческой семьи. Ладно хоть, что не надо больше притворяться, будто я князь, оттопыривать мизинцы при еде и говорить «по-французски»: мадмазель, ля-пуля, кис кесе. Доев все, что мне положили на тарелку, я поднялся из-за стола.
— Хочешь выйти, Боря? — сказал мне доктор Михайлов. — Что же ты не попросил разрешения?
Он улыбнулся своими красными, словно вывернутыми губами, но глаза его смотрели тяжело, не мигая. Я смутился. У нас в интернате воспитанники вставали, иногда дожевывая па ходу. Это поощрялось: чтобы не мешали тем, кто еще обедал.
— Он забыл, — ласково сказал Тимофей Андреич. Встать разрешили и Наталке. Она тут же повела меня показывать комнаты, толстого надменного кота с гетманскими усами, санки в чулане и объяснила, что у них в сарае живет корова.
— Хотите посмотреть наши семейные фотографии? — предложила она, когда мы вновь вернулись в столовую. У нее был вид маленькой хозяйки, занимающей гостя.
Мы уселись на диване под высоким фикусом, и Наталка открыла толстый альбом в красном плюшевом переплете с золотым обрезом. С плотных пожелтевших страниц на меня глянули мужчины в гладких, без морщин, вицмундирах, в гуттаперчевых воротничках, с усами, закрученными, как рогачи; женщины в широкополых шляпах, украшенных целыми грядками искусственных цветов, и в белых перчатках до локтей.
— Вот это мой дедушка, — показывала Наталка пальцем. — А это бабушкина сестра еще курсисткой. Это папин дядя — присяжный поверенный…
Наконец она, к моему облегчению, захлопнула альбом, положила обратно на комод.
— В прошлом году мы ездили в Киев, — затараторила Наталка, — и меня водили в зоопарк. Там детей катают на самом настоящем пони. Сбруя вся в бубенчиках… а колясочка лаковая и покрытая ковром. Веруша говорит, что все богачи имели собственных пони. У вас была?
С этой девочкой мне стало скучно.
— У меня был ручной зебр, — подумав, свысока ответил я. — И еще коньки «нурмис».
Спать легли по-деревенски рано, и я обрадовался, что наконец избавился от Наталки. Однако мне пришлось провести с ней и весь следующий день: взрослые отослали нас кататься на санках. Отходить далеко от дома нам не разрешили, хорошей же горки поблизости не было: пришлось возить друг друга по дороге перед калиткой. Мне это скоро надоело. Я стал томиться, ожидая, когда мы вернемся в Киев. Наконец после обеда молодожены Михайловы стали собираться па поезд. Доктор, веселый, блестя белой ниткой пробора в черных, лаковых волосах, доброжелательно спросил меня:
— Нравится тебе здесь?
— Нравится, — ответил я, улыбаясь оттого, что пришло время покинуть этот дачный поселок.
— Очень хорошо. Здесь ты и останешься жить. Не обижай Наталку, относись как к младшей сестре. — И, очевидно заметив на моем лице разочарование доктор слегка нахмурился. — Ты сам видел, в городе при больнице у меня с женой всего одна комната. Тут же целый домик… тишина, воздух чудесный, нет городской сутолоки, фабричного дыма.
Остаться о поселке, катать на санках лупоглазую девчонку и просматривать с нею альбом фотографий? Этого я никак не ожидал! А как же Боря Кучеренко, наши морские сражения? Плевать мне на чудесный воздух и тишину — они мне надоели еще в родной станице. Я всей душой рвался в город. Для меня он и был дорог именно шумной уличной сутолокой, пронзительными звонками трамваев, яркими огнями кинематографов, закопченными фабричными трубами, подпирающими небо. Как всякий сирота, зависимый от чужой милости, я понимал, что возражать бесполезно, и растерялся. Лишь когда Михайловы стали прощаться с родней, я вспомнил о последнем козыре, о котором не любил вспоминать, пробормотал:
— А школа тут есть? Мне в школу нужно.
— Ты в каком классе учился? — спросил Сидорчук.
Я сам не знал в каком. После отъезда из интерната Володьки Сосны я два года терпеливо ходил в третий класс. Однако на уроках все мои помыслы устремлялись не к доске, а к тому, чем бы хоть на минуту обмануть голод. Мы, пацаны, целыми днями, словно леденцы, сосали кусочки черной, каменистой подсолнечной макухи, боясь нечаянно раскусить ее и съесть. Но теперь, вспомнив свои былые подвиги в Петровской гимназии, я поспешил ответить:
— Учился в пятом и… и… перешел в шестой.
— Вон как? — удивился начальник станции и поправил очки в стальной оправе. — Такой малыш? Молодчина. Н-да-а. У нас тут, брат, школа аж за четыре версты, в селе. И то начальная. Ну да не вешай носа: я вижу, ты пригорюнился? Чего-нибудь придумаем.
Пришлось мне остаться в Клавдиеве.
Слово свое Сидорчук сдержал. В конце недели меня отдали учиться к пани Чигринке: то ли вдове генерала, то ли разорившейся помещице.