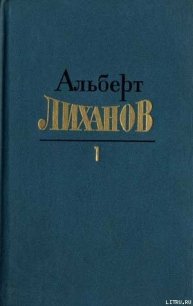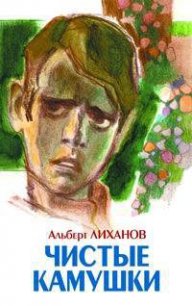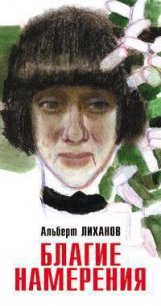Последние холода - Лиханов Альберт Анатольевич (прочитать книгу txt) 📗
– Стой здесь, – сказал я голосом, не терпящим возражений, и выхватил письмо из ее руки.
Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся к проходной.
Едва я открыл дверь, на меня жарко дохнуло хлоркой и еще чем-то противно больничным. Но я не дрогнул. Ведь мой страх ждал такого запаха.
В маленькой проходной сидели две женщины. Обе в черных халатах, как говорил Вадим. И лоб и щеки у них были затянуты такими же черными платками. Как будто они хотели побольше закрыть свое тело. Даже на руках у них я увидел черные перчатки.
Сердце мое колотилось совсем по-заячьи.
– Можно передать письмо? – спросил я у черных теток.
– Письмо мо-ожно, – неожиданно добродушно сказала одна тетка. Она казалась повыше.
– Да неплохо бы еще и еды, – вздохнула другая.
Еды? Какой еды? Я ведь не знал об этом. И Вадька ничего не говорил.
Меня обожгло.
Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг маленький человек думает совсем по-взрослому. А человек взрослый, даже старик, убеленный сединой, думает, как малыш.
Почему, отчего это?
Я думаю, потому, что взрослость приходит к нам не однажды, не в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, когда маленький человек видит важное для него и понимает это важное. Он вовсе не взрослый, нет. И нету у него взрослого понимания подряд всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых он не знает, он вдруг догадывается: вот это, пожалуй, пихта. А это кедр. Во множестве сложных вещей он узнает самые главные, понимая их если и не умом, то сердцем.
Ну а взрослый… Это объясняется легче. Просто взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот! Прекрасно!
Прекрасно, если взрослый, даже седой человек способен подумать как ребенок.
Меня обожгло. И я подумал: «А что мог сказать Вадька мне? Что мог он сделать? Отнести кусок жмыха, ломтик черствого хлеба сюда, своей маме?»
Снова перехватило горло.
Его перехватило потому, что я понял Вадькину беспомощность перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед тифозными бараками. Перед бедой – своей и маминой.
Он не мог ей помочь. У него не было таких сил.
Я вздохнул, онемелый, – и раз и два.
– Что, милый? – спросила высокая тетка.
– Тебе худо? – заволновалась другая.
– Тяжко без мамки-то? – вздохнула первая.
– О-хо-хо! – вздохнула вторая.
– Нету еды, – сказал я совсем Вадькиным голосом.
Они вздохнули вразнобой.
– Худо! – сказала высокая.
Теперь-то я знал: худо! И страшно оттого, что худо. Надо было уходить. Но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула мысль.
Да! Я знал, что в госпитале или больнице, если написал записку больному, можно получить ответ: «Как обрадуются ребята, – подумал еще я. – Запляшут, закричат. Еще бы: письмо от мамы!» И я опросил:
– А можно ответ получить?
Черная тетка, что повыше, качнула головой. И сказала страшное:
– У нас ответов не бывает.
Дверь проходнушки жахнула за моей спиной. Ее приходилось оттягивать изо всех сил, потому что держалась она на крепких железных пружинах, но я этот дверной выстрел как теткины слова понял: приговор!
Я тряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли, ругал тетку. Надо же, какие слова выбрала, ясное дело, почему ответов не бывает, тифозная ведь больница, не простая, а это значит, зараза передается, это значит, тиф с листочком бумаги, с обыкновенным письмом может вырваться на волю, как страшный джинн… Но тоска меня не покидала. Не отставала она от меня, и все тут.
К Марье я подходил другим человеком. Нет, внешне, конечно, все оставалось таким же, наверное. Но в душе моей много чего произошло за какие-нибудь десять минут.
Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав киснуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать.
– Порядок! – сказал я ей бодрейшим из голосов и пошел вперед, не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя.
Машка топала на полшага позади и, слава богу, не видела моего лица, давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норму. Она ничего не спрашивала, похоже, знала, что никаких новостей из черной проходнушки не поступает. Отдали письмо, и все. Ждите.
А в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная работа – служить в такой больнице!
Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черному, эта страшная зараза? Но черный – это цвет смерти.
Опять новая и странная мысль, точно глубокая яма, открылась подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди выбрали в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности победить страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем, он не поможет, но на всякий случай все же обрядились в черное, надеясь, что к нему не должна пристать зараза – смысла ей такого нет!
Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал: их разрушает только время и другие события. Будто время – это маленький стальной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу – или только глыбку, – если мысли хоть и тяжелые, но не такие большие.
Неожиданно – впрочем, жизнь всегда продолжается неожиданно: случается что-то новое, вот она и идет дальше, наша жизнь, – так вот, неожиданно Машка проговорила:
– Мне Вадика жалко!
Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной лестнице с высокой крыши, я опустился из горьких своих дум обратно на землю. Заставил себя переспросить Марью, чтобы не ошибиться, чтобы не казалось мне, будто я ослышался. Ведь она всегда маму жалела. А про брата я слышал первый раз.
– Жалко Вадьку? – переспросил я.
– Ну конечно, – сказала Марья.
«А! – вспомнил я. – Должно быть, она про пальто».
– Сказано же, – опять принялся успокаивать я, – бабушка зашьет.
– Да я не про то! – ответила Марья. – Я вообще!
Все-таки я был зеленым сопляком по сравнению даже с Машкой. Как ни старался быть понимающим, а если надо, и абсолютно взрослым человеком, все же старание не всегда помогало мне, потому что Вадим и даже маленькая Машка знали горького гораздо больше, чем я.
Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и мама изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей жизни, очень даже нелегкой, хотят, чтобы я поменьше знал о ней, подольше был обыкновенным ребенком – без всяких горестей, с одними радостями, какие, конечно, можно придумать военной порой. Я понимал, как мама и бабушка страдают от того, что им это не всегда удается, а иногда не удается вовсе, и видел, как они хмурятся и нервничают, если вдруг догадываются, что я знаю больше положенного мне, по их мнению, если вдруг они сознают с огорчением, что, как ни укутывай меня в вату, точно елочную игрушку, когда ее прячут в коробку после новогодней елки, я все равно вижу настоящую правду. Или имею представление о ней по осколкам, которые долетают, добираются до меня.
Нет, человек, даже маленький, не елочная игрушка, его нельзя вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху, а потом упрятать на целую войну в мягкую, оберегающую от ушибов вату. Человек не игрушка, и – хочешь не хочешь – он будет биться об углы, которые придумывает жизнь, и это битье в конце концов приучает его к мысли, что жизнь не заменишь враньем или – скажем мягче – обманом, даже если этот обман совершенно не грубый, а деликатный и у него нет слов, а есть только молчание: люди молчат и, значит, скрывают правду.
Машка сказала, что ей жалко Вадима, не пальто даже его жалко новенькое – ведь она плакала из-за пальто, – вообще жалко, и мне перед ней неловко стало.
Мне стало неловко оттого, что Вадьку и в самом деле есть за что пожалеть, а вот я благополучней его. Мне не надо шакалить, я живу с талонами на дополнительное питание, у меня есть мама и бабушка, и отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу, и я не эвакуированный, а шляюсь тут по своему собственному городу без всяких там печалей. А вот Вадька!