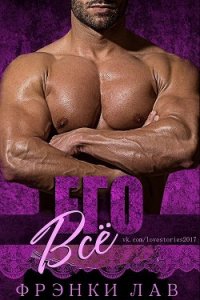Великое противостояние - Кассиль Лев Абрамович (книги без регистрации .txt) 📗
И я, встав в позицию, как учили меня на театре, пою. Я пою песенку о пастушке, о злом корсиканце, разбойнике Средиземного моря:
Офицер громко кашляет за моей спиной. Господа актеры Французской комедии — в великом смущении.
— Кто научил тебя этой бессмыслице? — спрашивает император, морщась.
— Наш барин.
— Как мне попадется твой барин, я велю расстрелять его за то, что он берется не за свое дело: сочиняет такие бездарные стихи.
Но в это мгновение в кабинет врываются два генерала, роскошно одетые, блещущие золотом (как написано в сценарии, это вице-король Италии Евгений и маршал Бертье). Вбежав, они падают на колени перед императором.
— Кремль горит! — кричат они. — Сир, мы умоляем вас покинуть Кремль… Будет поздно…
Наполеон подходит к окну, отдергивает тяжелую штору. Все в комнате становится багровым. Горит одна из кремлевских башен.
Со всех сторон окруженные огнем, маршалы ведут императора по пылающим улицам. Рушатся горящие балки, роятся искры над треуголками идущих, раскаленные головешки подкатываются под ноги. От упавшего угля загорелся сюртук на императоре, маршалы тушат огонь руками. Задыхаясь, прикрывая плащом лицо от жара, пробирается завоеватель через гибнущий, но неукрощенный город.
Офицер, арестовавший меня, отмахиваясь от искр, летящих над нами, тихо говорит мне:
— Беги! Твое счастье, если вылезешь отсюда, из этого пекла… Отчаянная, бешеная девчонка!
И, усмехнувшись, оставляет меня среди горящих развалин.
Дым выедает мне глаза, кожа на лице готова треснуть от жара. Но я бегу, сколько у меня есть сил, руками гашу на себе тлеющую юбку… Должен же где-нибудь быть конец этому пламени, есть же где-нибудь синее небо, и ветер без копоти, и воздух, которым можно дышать!
А в это время Кутузов, уведший русскую армию через Красную Пахру на старую Калужскую дорогу, остановился в деревне. Он сидит, понурив тяжелую седую голову, и медленно, гулкими глотками попивает чай с блюдечка. Мужики окружили его и горестно показывают на зарево в полнеба, там, где Москва:
— Вся занялась, матушка!..
Старый фельдмаршал, вздохнув, ударяет себя по лбу:
— Жалко… Это правда, что жалко. Но погодите, я ему голову проломлю!
Так со слов Расщепея, стараясь все запомнить, а иногда под его диктовку веду я в своей тетрадке запись по картине «Мужик сердитый».
Глава 10
Судьба Усти-партизанки
— Лыко-мочало, снова!..
Гаснет свет юпитеров, актеры покорно возвращаются на свои места.
Восемнадцатый раз репетируется сцена, где я попадаю в лагерь русских войск. Никак не ладится она у меня.
— Что такое? Вы всё забыли! Как, я вам говорил, надо вести сцену? Ведь вы уже не та Устинька, которая поет куплетики в домашнем театре. Вы повзрослели, вы хлебнули горя, вы уже знаете, почем фунт лиха. Меньше жеманства, больше мужества. Повторим.
Но беда в том, что сцена крепостного театра сниматься будет только завтра — задержались декорации, — и только завтра я по-настоящему представлю себе, какой я была до бегства в Москву. Все это очень сбивает, и я иной раз готова реветь — такой беспомощной, вконец запутавшейся и ничего не понимающей выгляжу я на съемке. Но Расщепей терпеливо работает со мной, проходит дома сцену за сценой, заставляет меня в особой тетрадке вести «дневник Усти». Дневник этот отличается от обыкновенных дневников тем, что записи там делаются не о прошедшем дне, а о будущем. Накануне съемки я подробно записываю в тетрадку все, что должно произойти завтра в жизни Усти, и ставлю дату: «25 сентября 1812 года».
Вот этот день:
«Я открываю глаза и не могу понять, где я.
Незнакомая бедная горенка. Я боюсь взглянуть в окно. От одной мысли, что я увижу опять страшное багровое небо, меня начинает трясти. Все же посмотреть надо. И, решившись, вытянув сколько можно шею, я заглядываю в окошко. Свинцово-серое осеннее небо в окне, но мне там виден совсем маленький просвет в тучах, и в просвете — синева, яркая и умытая. Значит, есть снова на свете синее небо!
Я очень слаба. С трудом поднимаю голову и осматриваюсь. На мне просторная мужская рубаха с подвернутыми рукавами.
— Лежи, лежи, не шебаршись, — говорит кто-то, и я вижу маленькую опрятную старушку.
— Бабушка, это я где?
— У мене. Вот ты где. Мой сын Петруха тебя из полымя вытянул. На тебе уже все лоскуточки занялись. Лежи.
— Бабушка, — говорю я, — а я у самого Наполеона была.
— У Наполеона?.. Ты лежи, лежи, а то у тебя, видно, ум зашелся».
«Прошло около месяца» — такая надпись будет на экране в картине, такую запись сделала и я в «дневнике Усти», прежде чем рассказать о дне 19 октября.
«Тяжелые, глушащие взрывы сотрясают Москву. Бабка крестится. А я, уже оправившаяся на харчах у добрых людей, бегу на улицу, чтобы узнать, где это так гремит и ухает.
— Французы Кремль рвут! — говорят люди, пробирающиеся из города.
И снова страшный удар, словно с неба, падает на город, раскачиваются двери, как при урагане, стекла вылетают из окон. Но любопытство одолевает меня. Я влезаю на высокую березу, и отсюда, с горы, где живет бабка, приютившая меня, с вершины высокой березы видно: по Калужской дороге уходит из Москвы французская армия.
А вечером я слышу снова перестук копыт, выглядываю из-за забора. Это тихо пробирается окраинами города казачий отряд; впереди едет молодой офицер. Я выбегаю на улицу и бросаюсь к его лошади:
— Барин офицер!.. А французы нынче утекли.
— Куда утекли? — спрашивает, подозрительно оглядываясь, офицер.
— Не ведаю куда, только вовсе ушли… Повзрывали там чего-то да и бросили Москву.
Офицер снимает каску, поднимает руку и уже собирается перекреститься, как вдруг рука останавливается в воздухе, и, разжав щепоть, офицер грозит мне пальцем:
— А ты, коза, не врешь? Ну-ка, садись со мной, поедем разведаем. Смотри, если наврала, вместе убьют.
Мы скачем по пустым улицам города сквозь погорелые кварталы. Ни души кругом — ни французов, ни русских. Мы подъезжаем к самому Кремлю. Спешившись, казаки, сопровождающие нас, осторожно выглядывают из-за угла, просматривая улицу.
Последний французский обоз гремит вдали.
И вскоре мы мчимся к расположению русских войск. Я сижу поперек седла, крепко держась за гриву лошади. Наш маленький отряд карьером врывается в лагерь. Все выбегают нам навстречу, и офицер, везущий меня, срывая шапку, плача, кричит на весь лагерь:
— Наполеон ушел! Москва свободна!
Гром и сборы в русском лагере. У костра, намотав длинный ус на палец, сидит кудрявый гусар в расстегнутом ментике. Я слышу его зычный голос:
Грохот барабанов, конский топот заглушают его, но я уже узнала этот голос. Я подбегаю к костру.
— Барин Денис Васильевич! — кричу я. — Помните, в Коревановке?..
Секунду он всматривается в меня:
— А, прекрасная пастушка! Так это ты принесла добрую весть из Москвы?.. Братцы, виват в честь прекрасной пастушки! Вот она, добрая ласточка. Виват ей!
Меня сажают к огню, среди брошенных седел и сбруи.
— Виват! — кричат усачи.
— Ну, Устинья, — говорит Давыдов, — будем бить твоего корсиканца. Чай, ты слышала о моих партизанах? Завтра начну отпускать бороду, надену армяк, на грудь икону Николая-чудотворца повешу — и с богом в дело! Ударим по тылам француза.