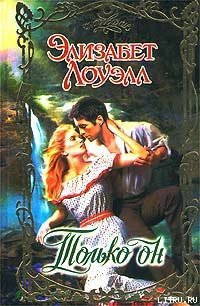Когда у нас зима - Дьякону Мирча (читаемые книги читать .TXT) 📗
Я расстроился. И вообще мне надоели жалостливые взгляды. Я живу очень даже хорошо, и как-никак у меня единственного в деревне есть пианино. Скорее бы папа вернулся, мы бы с ним прошлись по улице, всем назло.
Маму мы нашли усталой, она еле смогла нам улыбнуться. Там все работницы были усталые, но все смеялись над мамой, что она учителева жена, а докатилась до мотыги. Я залез в сани. Мама говорила, что не понимает, чего от нее хотят, почему ей даже не дают молока, она ведь работает наравне со всеми и никого не убила. Мне ужасно грустно.
Роса выпала раньше обычного, и светлячки так и норовили навешаться мне на волосы. Но они не могли меня развеселить, и мой брат к тому же ушел домой, ему надо доделывать кораблик. Я остался сидеть в санях, и как жалко, что я не знаю ни одного грустного стихотворения, чтобы мороз по коже. Я запряг в сани много-много белых коней и погнал их на луну. Мне хотелось мороза — и стала зима. Что-то мелькало под копытами, и я не сразу понял, что это волчьи пасти, и за моей спиной щелкали зубами все зимние, все голодные волки. Как вернуться, я не знал, потому что земля превратилась в одно белое поле, и по нему прыгали тени, и стояла такая ночь, что раньше умрешь, чем она кончится. Лошади от страха стали друг за дружкой превращаться в кузнечиков и запрыгивать ко мне в рот, между последними молочными зубами, потом волки меня все-таки догнали и съели. Тогда я вылез из саней, отменил холод и поволок сани за собой к дому. Поле сбилось под ногами, как простыня. Луна созрела и целилась мне в голову. Я петлял из стороны в сторону, чтобы она промахнулась, а тут еще от кузнечиков жгло в животе, и я не мог ни о чем думать — только зачем луна за мной гонится. Мне было все хуже и хуже, пока я не встретил черта с трубой и он не сказал мне, что это все чепуха и лучше мне слушать его, он-то меня знает, слава богу, с пеленок. Он заиграл, как никогда, я выплюнул по одному всех кузнечиков, увидел, что уже утро, и вернулся на санях под навес. Мне больше не было грустно.
Когда я проснулся, все тело ныло, я лежал уже не в санях от прошлого режима, а в своей кровати на четыре персоны, и мама сидела рядом. Она не спала всю ночь, искала меня вместе с теми усталыми работницами, и если бы не Гуджюман, они бы меня не нашли. Я сказал маме:
- Еще бы, я же был далеко!
И она засмеялась.
Нет, мне больше не грустно.
Прошел еще месяц, я нарвал много цветов, а папа так и не вернулся. Всего я нарвал девятьсот диких гвоздик и шестьсот зверобоев. Отнес в сарай, на чердак, и сложил на трухлявом сундуке, где часы и коньки. Там я принимаю Алуницу Кристеску. Цветы пахнут, мы заводим будильник на звон и читаем прощальные письма. А что будильник не звонит, ну и пусть.
Вообще я не такой уж несчастный. Из забора выпало пять досок, но я уже начал привыкать, и мне больше не хочется плакать. Хотя нет, хочется, когда мама посылает меня за хлебом и меня все пропускают вперед, будзю бы я тороплюсь. Один раз там был милиционер, его тоже пропустили. Он смотрел на меня в упор, и я уже хотел ему во всем признаться, но тут он меня спросил, сколько будет трижды три. Тогда я разозлился и отбарабанил ему таблицу умножения от начала до конца, при всем честном народе, и все смеялись и были за меня.
Мой брат все время что-то чертит на листочках и все грозится сообщить о своих открытиях нам с Алуницей Кристеску. Я дрессирую собак, а они никак не хотят дружить, только повернешься к ним спиной — цапаются. Я учу их прижиматься брюхом к земле и ползти.
Никто из родственников больше к нам не приезжал, да и зачем, у нас ведь не осталось ни орехов, ни фасоли. Зато через месяц приедет на каникулы дядя Ион, нам уже не терпится пойти с ним на речку и плавать руками по дну, потому что у нас речка по колено.
Весна уже в разгаре, бабочки садятся мне на ладошки, когда я лежу в траве, и каждый вечер я прихожу из лесу пьяный. Моя береза сохнет в схватке с молодым буком, и мне ее жалко. С запада налетают короткие ливни, я еле успеваю спрятаться под дерево, а вообще я целый день лежу в траве, на спине, лежу, пока букашки ко мне не привыкнут и не начнут ползать по лицу, по носу — некоторые зеленые, некоторые голубые, такие же красивые, как цветы. Я так тороплюсь належаться, потому что они все умрут под косой, сразу как созреют черешни. У меня вся надежда на краденые черешни: наше дерево такое высокое, что, пока долезешь доверху, птицы уже разберут по черешенке и разнесут по белу свету.
Я люблю смотреть на цветы вблизи, смотрю, пока не начинаю их понимать, то есть почему один так раскрашен, а другой — по-другому, почему одни растут целой компанией, а другие поодиночке, и какие уже опылены пчелами, а какие нет.
Мой брат говорит, что я должен был родиться девочкой и что он ничуть бы не удивился — так я люблю всякие телячьи нежности. Поэтому я его с собой не зову, тем более что уже лето, скоро кончится школа и я занят: ем землянику, чтобы губы стали красные к школьному балу.
Алуницу Кристеску мама снова остригла. Она родилась в полнолуние и должна быть всегда как луна. Она тоже ест землянику и выглядит ничего.
В день бала, хотя это не совсем бал, потому что не ночью, мы пошли в лес с Урсуликой. Я был довольно счастливый, хотя всего выпало уже пятнадцать досок с тех пор, как нет папы. Но все-таки занятия кончились, и учитель объявил, что я получаю первую премию. Потому я и пошел в лес — нарвать букет для церемонии: себе, а заодно и Алунице Кристеску, она получает вторую.
Я все время смотрел под ноги и даже не заметил, что Урсулика куда-то подевался. Вдруг он бешено залаял, и тут же раздался выстрел. У меня цветы выпали из рук, я побежал изо всех сил на выстрел, звал Урсулику и наконец нашел его у самой Ходаи. Он вертелся на одном месте и рычал. Мне было страшно, но зуб уже не попадал за зуб, слишком мало их осталось, поэтому я зашел в сторожку. В печке была зола, но остывшая, на полу валялись банка из-под консервов и огарок свечи. Банку я прихватил с собой. Урсулика был цел и невредим, он положил лапы мне на плечи и стал выше меня. Я почесал его по белому нагруднику, и мы пошли домой. Но в дверях сторожки я оставил веточку, чтобы знать, войдет ли кто-нибудь туда.
В березах мы не задержались, было уже поздно, и потом я подумал, что тот, кто стрелял в Урсулику, может выстрелить и в меня. Я все рассказал моему брату и коказал ему консервную банку. Он пожал мне руку. Солнце уже сильно припекало, и я шел домой по тени, чтобы не осыпались цветы и не пересохли губы. Алуница Кристеску ждала меня у калитки в том платье, в каком мы ходили колядовать, то есть она, я ходил в матроске, платье было теплое, не по погоде, но зато лучшее. Мама вдела ей в уши новые петельки из голубой нитки, и цветы я ей подарил как раз голубые. Это вышло так красиво, что я пригласил ее после бала в сарай на угощение, на первые яблоки. Она сказала мне «спасибо», что бывает только по праздникам. Правда, в это время наши соседки, мать с дочкой, так ругались, что я чуть не сгорел от стыда.
Праздновали очень красиво. Пели хором, дирижировал наш учитель, хоть и без одного пальца: он говорит, что оставил его на реке Дон. Пригласили всех родителей. Но мама не смогла прийти, она сидела дома и зарабатывала нам на хлеб — шила платья учительницам.
Я очень жалел, что мама не видит, как я, со всеми своими недостатками, получаю первую премию. Мой брат тоже получал первую премию, он тоже разжился букетом — из моих сарайных запасов. Дедушка сидел, опершись одной рукой о палку, а другой поглаживал бороду. Он надел новую жилетку и держал шляпу на коленях. Глаза у него маленькие и быстрые, и, когда нас вызывали вручать грамоты, он моргал и сморкался. Я дал учителю цветы, а он мне — грамоту и книжку. Я хотел ему что-нибудь сказать, но не смог, потому что вспомнил про папу, как он сидел бы сейчас с другими учителями и смотрел строго. Наш учитель погладил меня по голове своими четырьмя пальцами, и я уступил место второй премии, то есть Алунице Кристеску.
Потом мы спели еще одну песню про то, что мы всегда готовы, и родители разошлись по домам. Я отдал грамоту дедушке, он угостил меня конфетами. Потом он поднял глаза и хотел вздохнуть, но так и остался, потому что бал происходил в физическом кабинете, и среди ученых на стене дедушка увидел себя, только под другим именем.