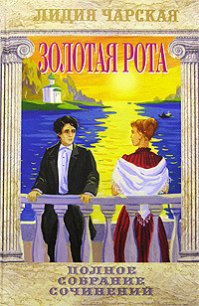Том 40. 3олотая рота - Чарская Лидия Алексеевна (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Было около десяти часов вечера и маленький город утих и замер, когда последний из жителей желтой казармы вошел в нее и, почтительно остановившись у порога, ждал приказаний старшины.
Казанский сидел на нарах, где лежали его кафтан и ситцевая подушка, составляющие его несложную постель. Подле него сидел Марк, а вокруг них стояла кучка серых людей «роты». На лицах всех чувствовалось напряжение, смущение и тоска, и какая-то непонятная Марку торжественность. И в сгущенной атмосфере казармы были тоже тоска и напряжение, отдающие чем-то необъяснимо тяжелым. Когда кто-то закрыл дверь и плотно припер ее собственным телом, держась у притолоки, раздался голос Казанского, звучный и твердый, как всегда:
— Собрал всех?
— Всех, — отвечали тихо несколько голосов сразу.
— Все, значит, робя? — еще раз пронесся твердый, звучный окрик, заполняя собою закоулки и щели казармы.
И густым, но сдержанным, как бы подавленным гулом из толпы ответили: «Все».
— Вот и хорошо, что все, — дробно вылетало одно слово за другим из горла Казанского, — хорошо и безобидно, чего лучше? Все тут, и каждый знать будет. А теперь слушай, робя, и чтобы ни-ни, ни дохнуть. Слушай! До моего прихода тут у вас мерзость всякая пошла по «роте». Люди распустились. Пьянствовали больше меры, через край хватали. Ну, это еще ладно. Не было бы пьянства, не было бы «золотой роты». «Золоторотец» коли не пьяный, так, значит, больной. А было еще хуже, робя. «Золоторотец» пусть пьяница и шаромыжник, но не жулик, но не вор он. Верно я говорю?
— Верно, верно, старшина! Верно! — опять загудело кругом.
— Вот то-то и оно-то! Жуликом «золоторотца» назвать нельзя, в нем свой гонор, своя серая гордость. И это хорошо. Потому что человек если без гордости, то это тля и мразь. Поняли? А коли жуликом кто обозвал, тогда можно было и в рыло безо всякого ожидания. Так?
— В рыло проклятому сыну, в рыло! — снова послышался гул.
— Так было, робя, и думал я, что всегда так и будет. ан нет! Вышло иное, — Казанский с усилием перевел дыхание и, повысив голос, вибрирующий, как струна, закончил свою речь едва не криком на высокой ноте: — А теперь, выходит, мы и жулики, и воры! Так, у земского мы самовар украли, подло украли при открытых дверях, когда нашей же рвани двери открыли для субботнего побора. Дело ли это, робя? Вас спрашиваю. А? — и смолк, и обвел загоревшимся взором серую толпу.
Но никто не откликнулся на этот, словно через силу выкинутый, вопрос. Его возглас задрожал, не поддержанный, над казармой и умер в звуках, медленно растаявших и поглощенных тишиной. Никто не отвечал, но все знали, что надо было ответить; знал и худой, невзрачный, маленький человек, робко жавшийся позади толпы. Он как-то неестественно пожимал плечами, и косые глаза его беспокойно метались по сторонам.
Это был Калмык; так прозвала маленького человека за косые глаза и выдающиеся скулы. Калмык украл самовар у земского, и все знали, что украл его он, а не кто другой, и избегали смотреть на Калмыка, не то стыдясь, не то опасаясь чего-то. И когда «рота» замолкла в томительном молчании, как один человек, в этом молчании четко раздался голос судьбы маленького человека, оказавшегося вором. Все услышали этот голос. Казанский говорил тихо, но каждое его слово падало гулко в толпу, как тяжелая капля дождя на влажный грунт почвы.
— Калмык украл, — заговорил Казанский, — и Калмык заслужил наказание, чтобы не было повадно другим и чтобы снять вонючее пятно с «роты». В «роте» воров и жуликов быть не должно. Так по уставу.
Он говорил с ними, как говорят с детьми, этот худой, невысокий человек, такой сильный и непоколебимый во всей своей правде. И все поняли эту правду и подчинялись ей в тишине. Так шли минуты, показавшиеся часами. Потом кое-где послышались сдержанные возгласы:
— Как велишь, так и будет. На то и старшина. Калмык тут, налицо. Выходи, Калмык, на ставку, как велит старшина. Выходи.
Толпа расступилась, шарахнувшись в сторону, и выпустила вперед бледного, с дрожащей челюстью Калмыка. Он как-то сразу очутился перед нарой, на которой ждал Казанский. С минуту они оба смотрели друг на друга молча — и судья, и ответчик; и Марку показалось, что в глазах Казанского перебегал движущийся свет, словно блуждающие огоньки зажигались в них, как на болоте, а в узких слезящихся глазках Калмыка было темно и пусто, как в яме. И вдруг Казанский положил руку на плечо Калмыка и спросил твердо:
— Ты украл?
У Калмыка глаза забегали и заискрились сильнее.
Калмык был подл и труслив от природы; соединяя в себе все худшее, что живет на свете, он обладал одним необходимым недостатком, который ставился в доблесть среди серых бесправных людей. Он умел лгать и был изворотлив, как кошка.
И все ждали теперь, что туча минует и что он, солгав, избежит чего-то неизбежного и страшного, что прервет тяготу, повисшую над «ротой».
И вдруг, к всеобщему изумлению, Калмык дрожащим голосом произнес:
— Верно. Украл. Попутало. Украл, что же? — в последних звуках его фразы прозвенела потрясающая нотка отчаяния, граничащего с исступлением животного страха. Калмык был жалок и ничтожен. И никто не хотел взглянуть на него.
И Казанский понял Калмыка так, как надо было. По крайней мере, не было колебания в его лице, как-то разом осунувшемся и потемневшем. Что-то грозное зажглось в его глазах, как молния, как солнце, и они стали неумолимыми и острыми в один миг.
И взглянув на Калмыка этим долгим, острым, как нож, взглядом, взглянув в самое его сердце, он сказал:
— Ты сознался. Значит, ты виноват. Не посетуй же на нас. Такой устав был. Испокон веков. Преступничать нельзя. У нас свои законы. Тюрьмы, братец ты мой, и нюхать нам не приходится. Будет и того, что четверо туда без меня перешагнули. Довольно сраму без того. Тебя не попущу. Будет. Лучше по-свойски отделать. По крайней мере, не губить и тебя, и нас. Сам знаешь, чего заслужил, — и он кивнул головою кому-то и отвел взор от виновного.
Из толпы выдвинулись трое. Михайло Иванович, Извозчик и еще какой-то одутловатый и белобрысый «золоторотец», у которого было в руке что-то длинное и темное, извивающееся, как змея. И когда Марк попристальнее взглянул на извивающийся предмет, он понял, что это нечто было среднее между кнутом и плетью. Потом он посмотрел на Калмыка и содрогнулся. Тени набежали на его побелевшее как мел лицо и как бы скрыли его глаза, расширенные и померкшие от ужаса. Михайло Иванович и Извозчик, подошедшие к нему, что-то ему сказали. Но он не понял, потому что вряд ли мог что-либо понять в эту минуту от обуявшего его животного страха.
Тогда из толпы выскользнул Черняк и, суетясь около Калмыка и поминутно шмыгая носом, стал стягивать с него кафтан. За ним еще приблизились двое, стали бесшумно и методично помогать ему. Потом, раздев донага виновного, они подняли его на руки, как ребенка, и отнесли на нару. Теперь безо всякой одежды Калмык казался совсем маленьким и ничтожным. Он жался и вздрагивал всем телом, и тело его казалось почти синим и худым, как у мертвеца, в обманчивом полусвете июльских сумерек. На левом плече у Калмыка была круглая ранка с запекшимся струпом, и Марк, поймав ее взглядом, уже не мог отвести от нее глаз. Этот гноящийся струп на жалком костлявом теле как-то особенно подчеркивал немую беспомощность Калмыка. Извозчик и белобрысый «золоторотец» встали один у ног, другой у головы виновного. Михайло Иванович с тем же своим выражением детского недоумения на обрюзгшем и вспухшем от пьянства лице взял из рук белобрысого кнут и, взмахнув им над головою, опустил руку на голую спину Калмыка.
Прозвучал стон, прозвучал и оборвался, заглушенный чьей-то догадливой рукою. Кто-то зажал рот Калмыка. Кто-то сел ему на ноги, потому что тело несчастного, трепеща и извиваясь, мешало ложиться как следует ударам.
Марк весь съежился и, глубоко втянув голову в плечи, смотрел, исполненный тяжести и тоски.
Ему казалось, что он впитывает в себя те же удары, и воображение его разыгрывалось с такой силой, что боль этих воображаемых ударов заглушала в нем боль, наполнившую сердце.