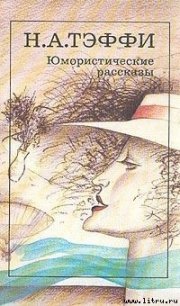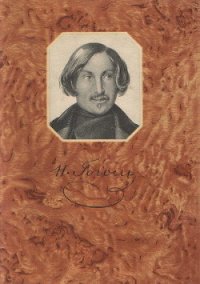Егоркин разъезд - Супрун Иван Федосеевич (читать книги бесплатно полные версии .txt) 📗
— Рассказывай, чего набедокурил?
— Я не бедокурил.
— А дрался зачем?
Егорка знал, что Антон Кондратьевич шутит, не боялся его, однако не мог врать, и если на самом деле набедокурил, то рассказывал все без утайки.
Выслушав, Антон Кондратьевич произносил:
— От меня, брат, не скроешь, я по твоим глазам все вижу.
Бывая вечером в общей половине барака, Егорка и Гришка иногда приставали к Антону Кондратьевичу с просьбой сделать из дерева игрушку. И он им мастерил то лошадок, то сабли с острыми-преострыми лезвиями, то еще что-нибудь, причем мастерил не так, как другие. Другие начнут делать для ребятишек какую-нибудь штуковину и приказывают: «А вы отойдите, не мешайте», Антон же Кондратьевич поступал иначе: повозится немножко сам, а затем заставляет Егорку с Гришкой:
— Помогайте. Самая наилучшая игрушка та, которую смастерите вы сами.
Кое-когда Егорке с Гришкой надоедало помогать, и они просили:
— Хватит ее делать, ведь она уже готова.
Антон Кондратьевич вертел перед глазами ребят изделие:
— А здесь? А тут? А вот тут?
— Это мы потом доделаем.
— Нет уж, не привыкайте «потомкать». Дело — птица: выпустил из рук — оно и улетело. Заканчивайте.
Антон Кондратьевич не мог сидеть сложа руки. Придя с работы и поужинав, он выискивал какое-нибудь дело: починял одежду, обувь, выстрагивал черенки для инструмента.
Но самым любимым его занятием было топить печки. И это было как нельзя кстати, потому что Антон Кондратьевич умел не только хорошо поддерживать огонь в печках, но и мог, как, пожалуй, никто другой, отстаивать их от постоянных посягательств дорожного мастера.
Заглянув как-то вечером в барак и увидев с порога, что стенки железных печек раскалились докрасна, Самота выскочил на середину и закричал:
— Дьяволы! Чего же это вы делаете, а?
— Что такое, Степан Степанович? — спросил испуганно Антон Кондратьевич и, тоже выйдя на середину, стал шарить глазами по сторонам.
— Сюда гляди, сюда! — тыкал пальцем в сторону печек Самота.
— Гляжу, Степан Степанович.
— Красные?
— Ага. Это я их так распалил.
— Так ты что же делаешь, вражья твоя душа? — Самота в упор уставился на Антона Кондратьевича. — Ведь барак-то сгорит?
Антон Кондратьевич виновато потупился и молчал.
— Но чем только думает твоя дурная башка, а? — кипятился Самота.
— Думаю, что когда-нибудь барак обязательно должен сгореть. Как спичка вспыхнет, потому что уж больно потолок сухой.
— Видали его, субчика, — взревел Самота. — Так ведь с бараком сгорите и вы?
— Нет, мы не сгорим, мы выпрыгнем: которые в двери, а которые в окна.
— А потом куда пойдете?
— К мастеру, то есть к вам, Степан Степанович.
— А где я вас размещу, где?
— Это уж дело ваше.
— А я вас так размещу, что не возрадуетесь, — пригрозил Самота, — всех, окромя тебя, выгоню к чертовой матери с транспорта. Вот как я размещу вас.
— А меня?
— А тебя — в острог, за уничтожение казенного имущества. Понял?
— Как не понять.
— А раз понял, то действуй. Чтобы сегодня же печек в бараке не было. Вот прогорят дрова и выбрасывай.
— Это я мигом, Степан Степанович. Как только прогорят, так я сразу же их на мороз. А только потом как будем жить, ведь померзнем все, как мухи?
— По закону и по тхническим (так выговаривал Самота слово «техническим») расчетам у вас должна стоять одна русская печь. Она и стоит. А эти окаянные железяки — вон туда! — Самота взмахнул рукой в сторону окон и направился к порогу.
Антон Кондратьевич пошел за ним.
«Непонятно, — недоумевал Егорка, — когда нет мастера, рабочие ругают его, даже грозятся, а сейчас, когда он досаждает им и хочет, чтобы в бараке было холодно, все молчат. Говорит только один Антон Кондратьевич, да и то говорит не то, что нужно: поддакивает, соглашается».
Когда Самота протянул руку, чтобы взяться за дверную ручку, его окликнул Антон Кондратьевич:
— Степан Степанович, погодите!
— Что такое?
— Тут у нас перед вашим приходом затеялся спор. Аким говорит, что в Японии солнце не заходит и не всходит, а все время висит прямо над головами и, как на ниточке, то опускается, то поднимается.
— Это почему же?
Самота вернулся к столу, вокруг которого сидели рабочие.
— Потому что в Японии самый дальний восток, — ответил с серьезным видом Аким Пузырев. — И еще я слышал, что там бабы похожи на мужиков, а мужики — на баб.
— Ох и бараны, ну и бараны!
Самота засмеялся и присел к столу.
— Я ж не выдумал, мне люди говорили, — оправдывался, потупившись, Аким.

Самота был страстным любителем просвещать и поучать всех, кто окружал его. При этом он твердо верил, что больше его знают лишь люди, стоящие выше по службе, как, например, старший дорожный мастер или начальник дистанции пути. Это относилось не только к служебным делам, но ко всем существующим на белом свете вопросам, начиная от событий мирового масштаба и кончая мелочами. Зайдет ли речь о причинах войны с Германией или о том, отчего происходит северное сияние, или просто, почему кошка не может ужиться с собакой, Самота прерывает всех и тоном, не допускающим возражений, доказывает — вот потому-то. Говорит он пространно. Ему нравится, когда его слушают и восхищаются его «обширными» познаниями. Не соглашаться с ним нельзя, он оборвет на полуслове и отругает.
Большое удовольствие испытывал Самота, когда к нему обращались с просьбой разъяснить что-либо, касающееся русско-японской войны.
Так случилось и на этот раз. Не менее часа толковал Самота об Японии, а потом навалился на Германию.
— Немца надо покорить, — вразумлял он. — Сейчас, значит, дело так обстоит. Начали хитрить. По земле продвинуться не могут, так вздумали карабкаться по воздуху — много аэропланов запустили в небо. Да ведь и наш-то самодержец тоже не дурак. К тому же казаки наши большую лихость имеют, так что надо полагать — в скором времени мы одержим победу.
Когда Самота ушел, Егорка и Гришка вылезли из угла, где они сидели, чтобы посмотреть, как будут выбрасывать печки.
Антон Кондратьевич потрогал похолодевшие трубы и сказал:
— Дьявол! Чуть совсем не заморозил своей брехней.
И принялся за растопку.
Через несколько минут стены у печек сделались снова красными.
— А когда же их будут выбрасывать? — спросил Егорка.
— Этого не знает даже сам господь бог, — ответил Антон Кондратьевич.
От Антона Кондратьевича, Акима Пузырева, да и от других проживающих в бараке рабочих Егорка не раз слышал, что врать нельзя: «ложь не спасет», «на брехне далеко не уедешь», но сами они иногда так здорово врали, причем не только в одиночку, а и всей артелью, что Егорка диву давался.
Особенно умело выкручивался Аким Пузырев, и это крайне поражало Егорку. Аким Пузырев был среднего роста, коренаст, широкоплеч, и на его груди можно было — как говорил Антон Кондратьевич — «цепом молотить». Аким настолько был силен, что однажды поднял и переставил на другое место тридцатипудовую тяжесть. Случилось это так. Акиму захотелось навестить свою семью, которая жила в деревне в двадцати верстах от разъезда. Ежедневно с самого понедельника он обращался к мастеру, чтобы тот отпустил его в субботу пораньше. Самота все тянул и определенного ответа не давал. Наконец, в пятницу Аким снова напомнил о своей просьбе. Разговор происходил после работы около кладовой в присутствии Антона Кондратьевича.
— К жене, говоришь, захотел? — улыбнулся Самота.
— Да ведь пять месяцев не был у семьи.
— Эка невидаль — пять месяцев. Я вон, когда воевал с япошками, три года не был дома — и ничего.
— Мы же, Степан Степанович, не в солдатах, не на войне.
— А ты что думаешь, если ты не в солдатах, так и строгости над тобой не должно быть, что, мол, хочу, то и делаю.