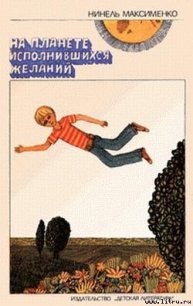Новые земли Александра Кубова - Максименко Нинель (книги бесплатно без txt) 📗
Тётя Вера успокоилась, да, видно, она это так просто наговорила — нервы сдали!
А у меня вся усталость прошла, как будто бы её и не было, я прямо как будто от долгого сна очнулся.
— Тётя Вера, — закричал я как сумасшедший, — дайте мне чистую рубашку, я пойду к археологам!
— Куда же ты, ей-богу, на ночь глядя? Сходил бы завтречка.
— Ой, тётя Вера, да я не дотерплю до завтра.
Я вымылся по пояс под умывальником на улице, растёрся так, что щёки и грудь у меня стали красные, как горный мак, и, схватив рубашку, которую тётя Вера вынесла из дома, побежал к палаткам археологов, на ходу натягивая рубашку.
— Господи ты боже мой, — вслед мне причитала тётя Вера, — вот торопыга-то, рубашку-то хоть бы на месте надел! Разобьёшься же, ей-богу.
А я мчался, сердце у меня стучало, нетерпение было у меня такое, что я еле жив остался, пробежав эти триста метров, которые отделяли от нашего дома палатку археологов.
«Как я мог, как я мог! Почему я не ходил к ним столько времени!»
Я вбежал в палатку, дыша, как загнанная лошадь.
Вбежал и врос в землю, как каменный столб. Сидят в кружок на земле люди, один голову поднял, и я смотрю — ну прямо пират, настоящий пират с нашей вывески: глаз завязан чёрной повязкой, шляпа соломенная с большущими такими полями и ещё шрам через всю щёку. А второй — турок какой-то, что ли, или багдадский вор? Чалма на голове, борода рыжая, а усы чёрные. Ну этого-то я сразу узнал: Александр Григорьевич полотенце на голову намотал, ненастоящие у него только усы — чёрные, углём нарисованные, а борода рыжая. Ну а вот того пирата, Виктора, я, ей-богу, только потом узнал, а сначала даже понять ничего не мог. А у третьего, у художника Геры, лента через плечо и какой-то орден на животе — прямо фельдмаршал Суворов у походного костра, он как раз миску держал в руках, а Коля, который у них вроде и за повара и за всё про всё, накладывал ему в миску из котла кашу.

Я подумал, что, может, Гера картину будет писать — что-нибудь вроде запорожцев, а зачем бы тогда он и сам нарядился? Оказывается, они просто так нарядились, просто они такие весёлые, ну такие весёлые, совсем на взрослых даже не похожи.
Багдадский вор, то есть Александр Григорьевич, поклонился мне и говорит:
— Проходите, достопочтенный, сегодня вам не угрожает быть съеденным, сегодня у нас пшённая каша с тушёнкой, так что не бойтесь, проходите, садитесь, будете самым дорогим гостем на нашем пиру. — И он отобрал ложку у фельдмаршала Геры — и тот только глазами заморгал — и протягивает мне.
И до того у них вкусно пахла пшённая каша с тушёнкой, что я навернул хорошую порцию, хоть — не подумайте — тётя Вера меня кормила что надо.
А потом мы пили чай, который они варили прямо в ведре — вот чудаки! — высыпали туда пачку чаю и яблок нарезали. Ну и вкусный же чаёк получился!
А потом пират Витя взял гитару и стал играть и петь, и все ему подпевали, а песни были такие, что я таких сроду и не слыхал, такие мировецкие и запоминались сразу, прямо сами в голову лезли. Вот, например, что за песенка:
Ну и смешная, ну такая смешная песенка! И ещё много в таком роде. А то просто всякие объявления и вывески как песню пели.
И как я столько лет на свете прожил, а ни одной такой песенки не знал, обидно даже стало.
А потом они запели песню, которую я знал, — про пиратов из фильма «Остров сокровищ», и я так обрадовался, что знаю эту песню, и вместе с ними стал петь; я знал все слова и стал петь погромче, чтоб они слышали, что я знаю все слова, а припев: «Эге-гей и бутылка рома!» — я так кричал, что в горле больно стало.
А потом, когда песню допели, Александр Григорьевич меня и спрашивает, знаю ли я о том, что веселюсь на своих именинах.
— Нет, — говорю я, — веселюсь просто потому, что мне с вами весело, а день рождения у меня уже был, ещё летом.
А они все переглянулись так хитро, и Александр Григорьевич говорит, только, уж не мне, а им, ну то есть всем археологам:
— Так-таки совсем и не догадывается! — И вдруг тут он посерьёзнел и такое сказал, что я чуть не лопнул и от удовольствия и от радости. А сказал он то, что сегодня, оказывается, день рождения нашей экспедиции, и причём не простой экспедиции, а первой послевоенной. — Для тебя первой, — сказал Александр Григорьевич, — а для нас больше чем первой. — Так он и сказал: «…больше чем первой». — Первая послевоенная! Ты хоть понимаешь, тёзка, что это значит?
Оказывается, как раз сегодня они получили ответ из Москвы, что наша экспедиция утверждена и что я (подумать только! Нет, это даже трудно себе представить!) утверждён штатным коллектором.
Я как вскочил, так даже свой чай вылил прямо на орден Геры, ну а орден-то у него на животе висел, так что и Гера вскочил и тоже стал кричать, только, кажется, не от радости.
А я как закричу:
— Дядя Саша!
А Александр Григорьевич даже зубами заскрипел.
— Какой, — говорит, — я тебе дядя? Я начальник твой, и раз уж попал ко мне в подчинение, чтоб дисциплина была, — говорит, — как на фронте.
— Да я, — говорю, — знаете как рад? Это от радости!
А он говорит:
— Знаю, ещё бы ты был бы не рад, ну всё равно это не повод, чтоб панибратствовать.
А Гера тут и говорит:
— Если бы он был не рад, я бы сейчас вот своими руками снял бы ему штаны и так бы ему всыпал по первое число, а потом выпустил бы его без штанов: иди, парень, на все четыре стороны, только к археологам близко не подходи.
А Витя рассказал, что, когда его приняли первый раз в экспедицию, он от радости целых пять минут ходил на руках, а потом задел ногами буфет, и буфет покачнулся, и оттуда выпал любимый мамин сервиз, который она всю войну берегла, не выменяла.
А потом Александр Григорьевич вспомнил про то, как я говорил, что у меня «глаз насквозный», и сказал, что они будут давать меня напрокат другим экспедициям в обмен на тушёнку и сгущённое молоко.
Я, конечно, понимал, что это шутки, но всё-таки немножко обиделся, а Александр Григорьевич засмеялся и сказал, что в археологи принимаются только настоящие мужчины, а настоящие мужчины испытываются двумя вещами — несчастьем и солёной шуткой и что я первое испытание прошёл, а второе ещё не совсем.
И тут вдруг Александр Григорьевич стал какой-то серьёзный и говорит, вот мы, мол, тебя все шуткой испытывали, а если говорить всерьёз, то нашу экспедицию только из-за тебя и утвердили.
А я и говорю:
— Сами говорите, что всерьёз, а сами опять шутите!
А Александр Григорьевич вроде бы совсем стал серьёзный, так что я и не пойму ничего. И Витя тут ещё говорит:
— Точно, старик, из-за тебя.
Ну, а я и совсем ничего не понимаю:
— Как это так?
— А вот так, — говорит Александр Григорьевич. — Всё из-за твоего слоновьего горшочка.
— А я, хоть застрелите меня, всё равно ничего не понимаю: там же хлам какой-то был, ерунда всякая. Свалили в большой горшок, что не нужно, чтоб на свалку тащить, поленился генуэзец какой-то.
— Стоп! — вдруг прогремел тут Александр Григорьевич. — Стоп, машина! Генуэзец, говоришь; был бы генуэзец — не было бы экспедиции. Вот тебе и генуэзец. Нет, брат, тут тебе лет этак на пятьсот пораньше будет, чем генуэзец. Вот это-то всё барахло, которое, ты говоришь, поленились на свалку оттащить, и рассказало нам, что это был не генуэзец вовсе, а киммериец, причём, судя по его скарбу, вполне мирный киммериец, а не вояка какой-нибудь. А почему вдруг киммериец и пифос античный, а? Ответь мне. Не можешь. Этого, брат, и мы сказать пока не можем, а вот покопаем ещё, тогда, может, и скажем. А тебе-то, тёзка, ещё учиться ох как надо!