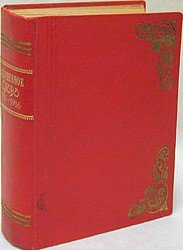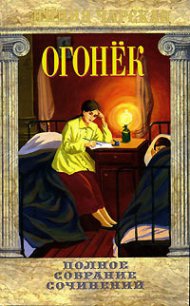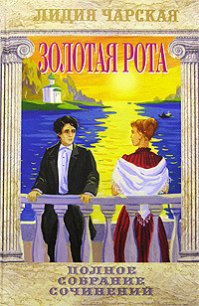Том 38. Огонек - Чарская Лидия Алексеевна (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
— Сейчас я переброшу эти связанные мною вещи на ту сторону протока. На противоположную льдину… Затем я поплыву туда… Выйду и перекину вам конец ремня. Поймайте его и держите крепко. Обеими руками. Поняли? Да? У меня будет другой конец в руках и я притяну островок к себе!..
О! Что случилось с ними! Я думаю, они были близки к безумию…
— Нет! Нет! Мы не пустим тебя! Ты утонешь! Утонешь! — кричали они обе, хватаясь за мое платье, за руки, плача и стеная. Сами того не замечая, они говорили мне «ты», как равной. Близость смертельной опасности сравняла нас.
— Надень пальто! Ты простудишься! Надень! — рыдала Казя, и черные глаза ее лихорадочно блестели.
— Не уходи от нас. Не уходи! Ира! Ира!
Но я поняла, что не рискнуть спасти их было бы безумием. Не говоря ни слова, я широко размахнула рукой, в которой были зажаты в огромный клубок закатанные ремень с шарфом, и в следующую же минуту я увидела их лежащими на льду по ту сторону протока.
Теперь скорее, скорее, а то ветер унесет в море последнее орудие спасения и, взмахнув обеими руками, я бросилась в воду.
О, какой ужас! Мне показалось в минуту, что лед внутри меня, лед снаружи, лед сковал меня своими студеными путами с головы до ног. На секунду я вся точно окаменела. Но только на секунду. Острая, как жало, мысль пронзила меня:
— Если ты поддашься, ты пойдешь ко дну, и малютки погибнут!
И я изо всех сил заработала руками и ногам, онемевшими от колючей мартовской воды. Я умею плавать как рыба, но здесь, в почти зимней воде между льдами, одетой в платье, с этим ледяным адом в теле и в мыслях, было мучительно работать руками, едва ли не под самой пятой смерти. Полторы сажени, отделявшие меня от берегового льда, показались мне чуть ли не целой верстою.
Но слава Богу! Есть предел и самой ужаснейшей муке, которую мне пришлось испытать. Я схватилась пальцами за желанный край крепкой береговой льдины и, поднявшись на руках, выскочила из воды. Потом схватила лежавший в нескольких шагах от меня ремень с шарфом и, размахнувшись ими, перебросила противоположный конец через поток.

Боже мой, что было с малютками в эти минуты! Тесно обнявшись, они стояли у края плавучего ледяного островка и рыдали, повторяя одно только слово:
— Ира! Ира! Ира!
Вся мокрая, с текущими с меня потоками воды, я стояла у самой воды протока и командовала осипшим голосом:
— Держите крепко конец ремня! Так! Теперь встаньте на колени. Так! Казя, ты сильнее Ады… Обмотай им два раза кисть руки… Держи крепко, крепко… Ну, Господи помилуй! Я вас притягиваю… Держитесь крепко.
Я вытянула руку как только могла. Сама легла на краю, чтобы моего самодельного каната хватила на всю ширину потока!
К счастью, шарф был в три аршина длиной (бабушка Лу-лу, благословляю твою работу!) и ремень около полутора аршина. Таким образом они блестяще выполнили возложенную на них миссию.
Через несколько секунд льдина с малютками подплыла настолько, что они могли просто перешагнуть только через узенький промежуток воды.
Смеясь и плача, они повисли у меня на шее.
— Это из-за меня! Из-за меня! — рыдала Казя, покрывая поцелуями и слезами мои закоченевшие руки, — ты простудишься и заболеешь из-за меня, Ира-Огонек!
Но я отрицала возможность простуды, успокаивая малютку. Я преважно облеклась в мое теплое пальто, из-под которого бежали ручьи, и, хлюпая полными воды сапогами, схватив за руки обеих малюток, бегом пустилась на гору по дороге к замку.
Появление моей мокрой до нитки особы произвело такой переполох, какого еще со дня своего существования не было в Рамовском интернате. Испуганная до полусмерти бессвязным лепетом молюток обо всем происшедшем, Марья Александровна собственноручно с помощью Маргариты Викторовны и прислуги раздели меня, натерли с головы до ног спиртом, напоили малиной, хиной, еще чем-то и уложили в постель, навалив на мою злосчастную грудь, живот и ноги целую гору одеял и подушек.
Она была так ошеломлена и потрясена, что совсем упустила из виду побранить Казю и только раз двадцать подряд просила меня лежать спокойно, пока не приедет доктор, за которым уже был послан старый Адам.
Разумеется, я буду лежать спокойно, но… но прежде должна же я поделиться с тобою, мой милый, милый дневник!
Апрель 19…
Как, неужели я провалялась целых две недели как колода, с позволения сказать, которая ничего не видит и не слышит?
Ну что я не видела ничего, это уже полный абсурд!.. Я видела, и много, много раз, Золотую. Она приходила ко мне, садилась на край постели и разговаривала со мною долго и нежно, как было дома, в нашем провинциальном гнездышке тогда… Или это было во сне? Говорят, я была очень серьезно больна после моего мартовского купанья. И они уже решили выписать маму… Но… но… я преблагополучно надула госпожу смертельную опасность и опять почти здорова совсем. Но честное же слово здорова, если не считать этого отвратительного кашля по временам… Если бы не этот кашель, ах, я была бы счастлива бесконечно! Еще бы! Никогда не подозревала я, что здесь меня так любят!
Право, иногда совсем не дурно принять морскую ванну в марте месяце, чтобы узнать, как тебя все любят и дорожат тобою…
Жаль только Казю. Бедняжка ходит как потерянная и всем и каждому твердит одно и то же:
— Если бы не мое глупое непослушание тогда на берегу, Ира-Огонек была бы здорова!
Милая дурочка воображает, что я больна из-за нее. Вовсе нет, больна потому, что пришла болезнь. Только и всего. И чего они все так волнуются? Право, даже смотреть досадно! Ну была больна, ну была больна серьезно, ну… Я теперь здорова, совсем здорова! И просто жестоко со стороны доктора (презабавный финн с очками, круглыми, как вентиляторы) держать меня взаперти. Правда, мои пальцы похожи на лапы паука (белого, конечно), так они похудели, а сама я выгляжу выходцем с того света: желта, как лимон, а глаза горят, как плошки. Премиловидная девица, нечего сказать! Золотая, наверное, не узнает, когда приедет.
Ах, теперь остается только две недели до ее приезда… Они вздумали было писать о моей болезни и обо всем том, что случилось, но Принцесса (голубушка Принцесса! Как я ее люблю за это!) — Принцесса на коленях, говорят, умоляла Марью Александровну не делать этого, зная с моих слов, как безбожно беспокоить Золотую перед самым ее дебютом. Мариночка сознает лучше других, что в эти дни решается судьба моей мамы. Что от этих дней зависит вся наша дальнейшая с нею жизнь. Умница моя! Когда я узнала все от Живчика, которая — увы! — от слова до слова подслушала весь разговор таинственного совещания начальства (на него, как взрослую девицу, пригласили и Принцессу), я чуть не прокричала: "Ура!"
Ну разумеется, Золотая не должна знать ничего о «событии» до тех пор, пока я не сойду с постели. А потом я расскажу ей все это в комическом виде. Да! Слава Богу, я могу снова писать дневник и письма Золотой. Последние письма! Скоро я увижу ее! Увижу! Вот-то мы зададим бал им всем, воображаю! Только бы прошел кашель, несносный кашель! Когда его приступ овладевает мною, мне кажется, что я лопну или задохнусь. А эта гадкая красная мокрота, похожая на вишневый сироп по цвету, которая пятнами остается на носовом платке.
Скорее бы прошло все это! Теперь весна. Море совсем вскрылось, если верить Живчику и другим, и из бельведера вид прекрасной. А у меня перед окнами сосны и не видно моря… Какая жалость! Ужасно вспомнить, что не придется закончить моей картины "Куки и его салазки". Это зимний жанр, а теперь уже не увидишь снега, салазок и Куки в его шапке-треушнике, сползающей по самые брови.
Я лежу целыми часами и гляжу в одну точку и припоминаю все, что случилось со мною за все годы моей коротенькой жизни. Почему коротенькой? Я проживу долго — сто лет — и буду такая же старенькая, как бабушка Ирмы. Только не такая важная и спокойная, как она. Ведь я — Огонек. Или под старость люди меняются? Не знаю. Надо будет спросить госпожу Ярви, какая она была в мои годы. Она ежедневно приходит ко мне в те часы, когда девочки и Маргарита с Марьей Александровной заняты на уроках, и мы ведем с нею бесконечный молчаливый разговор. Она вяжет свои вечные салфетки, иногда смотрит на меня подолгу, потом вздохнет тихонько и опять вяжет. По утрам, как буря, врывается ко мне Ирма. С нею вместе врывается запах хлева, который молоденькая Ярви предпочитает лучшим ароматам Maiglockehen и Treffle (моих любимых духов). У нее в руках неизменно жестяные кружки с парным молоком.