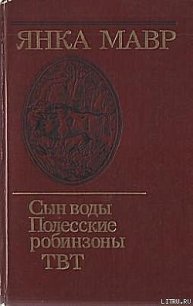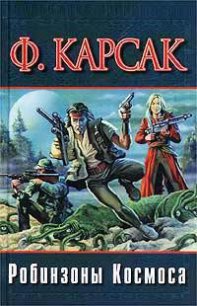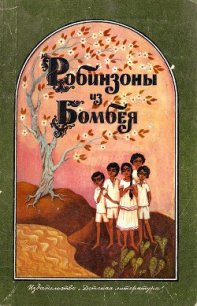Робинзоны студеного острова - Вурдов Николай Александрович (читаемые книги читать TXT) 📗
…Нынешние сверстники ребят, о которых я рассказываю, не представляют себе, что такое голод. И слава богу, как говорится! Голод — неизменный спутник войны, мучительное чувство, не покидающее ни на минуту. Организм от постоянного недоедания постепенно истощается, человек теряет силы, становится вялым, апатичным.
Кусочек хлеба. Как он был дорог тогда! О нем мечтали, о нем думали постоянно…
А теперь с досадой и сожалением замечаешь иногда, как ребята на улице отфутболивают друг другу белую булку. Если бы знали они, как мечтали их родители в годы войны о куске хлеба!..
Из Коми АССР от мамы пришло письмо. «Пусть Коля обязательно выезжает к нам в Селиб. Все-таки здесь с питанием получше, чем в Архангельске…» — писала она.
«Поеду в деревню к матери, к родным, — решил я, — учиться можно и в деревне».
Сестры, когда я сообщил о своем решении, принялись пугать, отговаривать.
— Куда ты пойдешь? Ты не представляешь, что такое Айкинский волок. Это больше полутораста километров гиблой, болотистой дороги, — убеждала Мария.
— И ни одной деревни по пути. Там и почту-то с великим трудом возят. Не думай, никто тебя не подвезет. Придется все версты считать на своих двоих, — вторила ей Лидия.
— А как же мама и Оля прошли, — возражал я, — да еще и с двухлетней Ядвигой на руках?
— Так то было летом. Летом и дорога лучше. К тому же Аня Джерикова дала им на дорогу три пачки махорки, а за махорку, мама писала, любой возчик может подвезти.
— Так я и для Коли могу найти, — вскинулась сидевшая у нас Аня. Она порывисто вышла и вернулась с двумя небольшими серыми пачками в руке
— Бери. Ярославская. Первый сорт. Курильщики ее больше всего уважают.
Я стал было отказываться, но Аня твердо сказала:
— Бери. Мне муж из Мурманска с товарищем десять пачек послал. Он у меня не курит, а им каждый месяц паек выдают.
Это был щедрый подарок. На махорку в то время можно было выменять все, что угодно.
Сестры в тот же вечер стали снаряжать меня в дорогу. Они решили, что, имея такую ценность, как табак, я смогу увезти с собой кое-что из вещей: вдруг дом сгорит — ведь ничего не уцелеет.
В большой рюкзак я положил школьные учебники, пару валенок, зимнее пальто и еще кое-что из своих вещей. Отдельно сестры упаковали выходной костюм Саши, два шерстяных платка, рубашки и даже новое нарядное покрывало.
Я получил по рейсовой карточке два с половиной килограмма хлеба и немного сахарного песку. Сестры добавили от себя пол-литровую банку отварной трески.
И вот в темный октябрьский вечер старый колесный пароход «А. С. Пушкин» без гудка отошел от речного вокзала и зашлепал плицами, направляясь вверх по реке, к Котласу.
Город был затемнен, сквозь светомаскировку не пробивалось ни огонька. Смутные очертания правого берега, казалось, ничем не напоминали знакомый вид большого, оживленного порта, мимо которого проходил пароход.
У меня был палубный билет. Но и на палубе было трудно приткнуться: везде сидели и лежали люди. Я пристроился на поленнице дров, предназначенной для топки парохода и, пригретый с одного боку теплом машинного отделения, быстро уснул.
Пароход, мерно подрагивая, быстро шел по широкой реке. Правый берег, высокий, почти отвесный, из глинистых и песчаных напластований, сверху густо порос темным щетинистым лесом. На низком левом берегу были видны раскинувшиеся деревушки, окруженные чернеющими осенними, уже убранными полями.
Двина выглядела сердитой, неприветливой. Пароход был наполнен людьми, как муравейник: кончалась навигация, и все спешили управиться со своими делами. На каждой пристани одни выходили, другие заходили, занимая освободившиеся места.
Люди ехали на совещания, в командировки, сопровождали грузы, ехали и по каким-то личным надобностям.
На палубе, неподалеку от меня, расположились призывники. Они громко разговаривали, пели песни, но сквозь оживление и веселость на их лицах проглядывала затаенная грусть расставания с родными местами.
Отдельной кучкой толпились чем-то очень похожие друг на друга старушки, одетые в темное. Они ехали молиться в дальнюю деревню, в церковь.
Меня удивило, что большинство матросов на судне — женщины. Они уверенно ходили среди пассажиров, иногда даже покрикивали на них. На стоянках они таскали с парохода и на пароход тяжелые грузы. Нелегко давалась женщинам эта работа. После погрузки они некоторое время стояли у борта, жадно и часто дышали, а потом расходились, шаркая ногами
Пароход время от времени останавливался у берега, чтобы пополнить запас дров. Матросы укладывали длинные поленья на деревянные жерди, вносили по прогибающемуся трапу на пароход и с грохотом сбрасывали в люк кочегарки…
Недалеко от моей «плацкарты» сидел на скамейке совсем еще мальчишеского вида призывник, его провожала женщина, по-видимому, мать, с дочерна загорелым крестьянским лицом, плотно сжатыми узкими губами и грустными бледно-голубыми глазами, которые она не сводила с сына. Она то поправляла на нем воротник ватника, то застегивала пуговицу, а то и просто гладила по плечу. Сын как будто стеснялся этого проявления материнских чувств, он отодвигался от нее, недовольно сводил свои жиденькие белесые брови, поглядывал на товарищей и, вероятно, опасаясь их насмешек, старался говорить с матерью грубовато, «по-мужски».
— А может, еще не возьмут тебя, Мишенька, — тихо, почти, шепотом говорила мать — какой из тебя вояка?
— Ты что, с ума сошла? — сердито шипел Миша. — Как это не возьмут? Чем я хуже других? А не возьмут, так я сам уйду на фронт. Каково возвращаться в деревню как бракованному коню?! Да меня там все бабы засмеют.
— Ну-ну, не сердись, Мишенька, — гладила его по плечу мать, — а и возьмут, так ты уж, ради бога, не суйся вперед, не высовывайся зря, не подставляй себя под пули.
— Опять ты заладила свою молитву, — недовольно ворчал Миша и отходил к товарищам, а мать вытирала уголком платка выступившие слезинки и шептала ему вслед:
— Господи Иисусе Христе, сохрани и сбереги!
— Не изводись заранее, тетка, — успокаивал ее степенный седобородый старичок в белой заячьей шапке. — Не все же на фронте погибают. Я вот, к примеру, две войны прошел — и, гляди, жив, все еще чирикаю. Ну; конечно, и пораненный был несколько раз и контуженный, но ведь на то и война. Да их еще и не сразу на фронт пошлют, обучать будут с полгода, а к тому времени, может, и Гитлера одолеют — конец войне будет.
— Ой, что-то еще не видно конца войне! — вздыхала женщина.
— Ничего! Скоро сломают хребет ему, злодею, кол осиновый вобьют в могилу!
— Так-то оно так, да сколько еще тыщь ребят поляжет да калеками, станет до этого времени! — качала головой мать призывника.
А ребятам словно и не было до всего этого дела. Собравшись в кружок, они залихватски пели хором:
Старичок в заячьей шапке сопровождал до Котласа какой-то груз. Он то и дело, кряхтя, поднимался со своего места и уходил проверить груз — не покушается ли кто на него.
— Эх, курнуть бы разок! — вздыхал он, почесывая затылок, и с нескрываемой завистью посматривал на призывников, которые по очереди затягивались цигаркой-самокруткой.
Я пожалел его и предложил закурить. Ох, как оживился дедок! Достал из кармана сложенную книжечкой газету, оторвал клочок, а когда я подал ему махорку, он чуть не рассыпал ее — так у него дрожали руки от нетерпения.
Он несколько раз глубоко и жадно затянулся.
— До чего же хороша ярославская махорочка! Будто сердце маслом помазали.
Скоро о моем «богатстве» узнали и призывники. Один за другим со смущенными лицами подходили они ко мне «стрельнуть" на цигарку. При подходе к Котласу махорки у меня осталось цигарки на две-три, не больше, и я отдал ее старичку. Тот порылся в своем заплечном мешке и протянул мне солидный кусок свиного сала. Я было застеснялся, но старик решительно сунул мне сверток в карман: