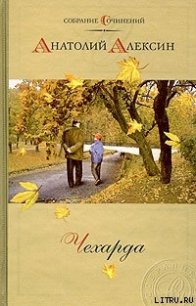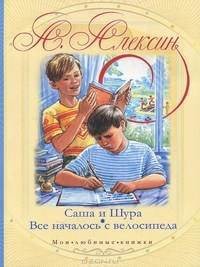Раздел имущества - Алексин Анатолий Георгиевич (полная версия книги .txt) 📗
Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.
И бабушка не пошла под венец.
— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю.
— В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?
— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.
— Почему же тогда...
— А ты? — перебила меня бабушка.
И больше я не задавала дурацких вопросов.
Бабушка была папиной мамой.
А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.
В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.
Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.
— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, продолжал заклинать в зале судебного заседания длинный, худой сын. -
Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...
Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина.
«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.
Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.
По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.
— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, — воспитывала меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.
— Все ночи?!
— Почти. Помогала им как могла. Иногда удерживала, не отпускала.
— Куда?
— На тот свет... И заодно подрабатывала.
Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:
— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.
Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.
Она рассталась со своей больницей.
— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.
— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.
— Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.
Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.
Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.
Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.
— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже имя твое говорит об этом.
Меня зовут Верой.
Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.
Мне трудно было ходить, а она просила:
— Сбегай-ка за газетой!
Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.
У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит «ничего страшного».
Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.
Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.
Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.
Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.
Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.
С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно скрывать.
«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»
Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность своей фигуры, и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.
Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.
А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.
— Мы с вами люди самой модной профессии! — сообщил маме Антон
Александрович.
Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома.
Хотя бабушка ждала во дворе...
Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.
Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.
Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала.
Он приписывал это моей крайней отсталости.
— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например?
— предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!
В конце концов, полностью уверовав в мою несмышленость, он решил объясниться маме в любви.
— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза.
Неужели вам ничего не ясно?
И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.
— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто
«некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!..
Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича, и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.
В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:
— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не впрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить — она вникает в психологию человеческих отношений!
Мама, наверно, была права, поскольку это длинное — психология начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.