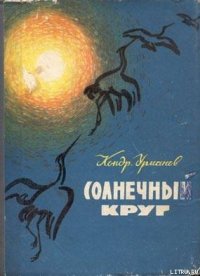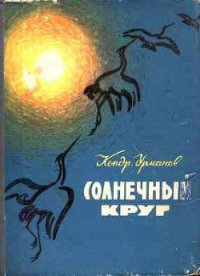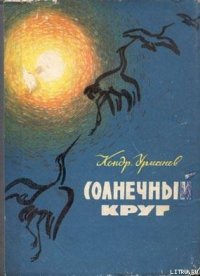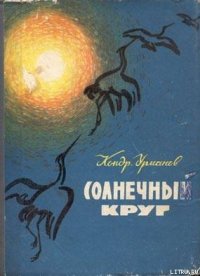Пора забот - Урманов Кондратий Никифорович (книги онлайн полностью .TXT) 📗
На этот раз Володя сам управился с хищницей, а вытаскивать крючки из открытой пасти отказался:
— Вон у нее какие зубы…
— Да, палец ей в рот не клади…
Увлекшись щуками, Володя перестал наблюдать окружающее. А посмотреть было что. Уень настолько извертелся, что солнце то встречало нас, то светило сбоку, то провожало, и за каждым новым поворотом нас ожидали новые картины: то зеленые шатры кустов затеняли воду и хотелось постоять под этим навесом, отдохнуть, то в просветы выглядывала узенькая гривка с разнотравьем, усыпанная пестрыми цветами, то открывался вид на высокие небольшие борки, уцелевшие с незапамятных времен от напора обской воды, заливавшей всю эту низменность. Весной борки похожи на плавучие острова, оторвавшиеся от Кашламского или Вьюнского бора.
Уень делает еще два-три поворота и мы оказываемся у Могильного борка. Медностволые сосны и зеленокудрые березки словно с разбегу поднялись на высокий берег и замерли, глядясь в зеркало глубокого и спокойного плеса.
Здесь, у прибрежного камыша-ситника, Володя поймал третью щуку и начал разбирать шнур, чтобы снова забросить блесну.
— Мне кажется, нам следует подумать об ужине, — говорю я. — Солнце уже покатилось под горку, надо поставить палатку, набрать дров для костра… Да и с удочками посидеть хочется…
Володя недоволен:
— Чебаков таскать? Тоже — рыба!.. Щука-то лучше…
— А может, вместо чебака линек попадет? Его на блесну не поймаешь… А уж рыба-то куда с добром!..
Место это мне хорошо было известно, я не раз устраивал здесь свой стан. Небольшая площадка, на которой я всегда ставил палатку, с трех сторон была окружена кустами, и они защищали меня от ветров, а напротив были Могильный борок и чудесный спокойный водоем.
Собирая дрова, Володя обнаружил в кустах черную смородину. Это было кстати. Я еще дома обещал угостить его свежим вареньем.
После жареной щучины, в приготовлении которой сын признал мои кулинарные способности, мы с наслаждением пили чай с вареньем, пили и похваливали.
Жар начинал спадать, плыть никуда не хотелось. Я поставил палатку, и до заката солнца мы сидели возле лодки с удочками. Нашими насадками не интересовался никто, кроме чебаков. Володя вытаскивал их и, сняв с крючка, бросал в воду:
— Иди, гуляй… Расти большой…
После щук ему явно не нравилась эта мелочь, и он, передав мне удочку, ушел к палатке.
С чебаками я поступал так же, как сын, но пару добрых окуней оставил на утреннюю уху.
Вечером мы долго сидели у костра и слушали, как вокруг замирает жизнь: вот закатный ветерок шевельнул кроны сосен Могильного борка, они пошептались немного, словно пожелали друг другу спокойной ночи — и замолкли; перестала плескаться рыба, закрылись на ночь цветы белых лилий, от реки потянуло прохладой, на кустах, в траве появилась роса, исчезли надоедливые комары; одна за другой затихали в ближних кустах суетливые пичуги. На смену голосам дня стали появляться ночные: за Могильным борком, в черемушниках, защелкал соловей, тихим говорком ему стала подражать камышевка возле нашей лодки, на высокой сосне затурчал козодой, позади нас негромко крякала утка и посвистывали утята, а на ближнем болоте затянул невеселую бесконечную песню коростель.
Над костром, как метелица, кружились ночные бабочки: они летели на свет, обжигали крылышки и падали в костер.
Было уже поздно.
— Пора, Володя, спать. Завтра рано разбужу.
— А ты что будешь делать?
— Погашу костер и приду к тебе…
Он забирается в палатку, но уснуть сразу не может.
— А почему, папа, коростель так дыркает? — спрашивает.
— Должно быть, песня у него такая… Его еще дергачом зовут…
— Вот так песня!.. Дыр-дыр, дыр-дыр, дыр-дыр… Как ему не надоест дыркать?..
— А ему, наверно, кажется, что он поет лучше соловья… У каждой птицы своя песня, у каждого зверя свой голос. Так уж от природы положено…
Помолчал и снова спрашивает:
— А почему борок называется Могильный?
Я рассказал, что жил когда-то в этом борке неизвестный человек. Ни рыбаки, ни охотники не знали: кто он такой? Может, это был беглый каторжник, скрывавшийся от царских чиновников — в старое время такие часто встречались в наших лесах, а может, просто одинокий человек, не ужившийся в деревне. Тут у него было приволье — и рыба и птица, а хлебушком любой охотник и рыбак поделится.
— Так он и помер в одиночестве. Какой-то добрый человек похоронил его. Я еще помню — большой черный крест, должно быть из лиственницы был сделан, а лиственница долго не гниет. Так борок с тех пор и стали называть Могильным… Спи, сынок, завтра, если захочешь, можешь сплавать на ту сторону…
Володя замолкает. Целый день его внимание было напряжено — он хотел все видеть, все знать. Я привез его в благодатные места и радовался пробуждению у него добрых желаний. Пусть хлебнет полной чашей всяческих впечатлений — в жизни пригодится…
Но… приснятся ему, вероятнее всего, щуки, потому что это были его первые встречи с подводными «тиграми».
…Рано утром меня разбудила зорянка. Сидит на сошке у нашего кострища, сама маленькая, серенькая, а на песню мастерица — словно струны незримые перебирает, и таково-то у нее ладно получается!
А Володя спит и, кажется, совсем не дышит, словно тоже прислушивается к пению зорянки. На лице у него счастливая улыбка, и мне жаль спугнуть ее, — жаль потому, что знаю по себе, как сладостны бывали в детские годы эти утренние, часы сна. А надо будить. Надо! Пусть он увидит утро, раннее утро на пойме, на тихом Уене, пусть послушает пение птиц, пусть сам увидит, как раскрываются чашечки белых лилий, — пусть встретит солнце!..
— Сынок! — говорю я негромко. Пор а вставать…
И вижу, как на лице Володи появляется плаксивая гримаса, вот-вот, кажется, скажет: «Ну, почему так рано?» Но гримаса исчезает, лицо светлеет, словно с него сползает тень, еще мгновенье, и Володя смотрит на меня удивленными большими глазами.
— Ты уже встал? — вопрос, конечно, неуместный, он же видит, что сижу рядом с ним, но так бывает спросонья.
— Зорянка, — говорю, — разбудила. Слышишь, как поет?..
Володя раздвигает вход в палатку. На одной из рогулек (сошек), которые я воткнул вчера в землю, чтобы повесить чайник над костром, сидела зорянка. Она совсем не замечала того, что шевелятся борты палатки, что мы переговариваемся и смотрим на нее, — сидела и пела.
— Смелая какая… — говорит Володя и, подумав, определяет: — Будильник…
Это он преувеличил. Голос у зорянки не такой уж громкий, чтобы разбудить уставшего человека: даже в тихое утро он не далеко слышен. А песня ее похожа на торопливый говорок, словно она рассказывает своим деткам, сидящим где-то поблизости, о том, что сегодня небо чисто и весь восток в пламени, что скоро появится солнце, уберет росу и легче будет лазить по веткам в поисках корма. А может быть, она болтает что-нибудь о нас, кто знает?..
Володя оделся, и мы вышли из палатки.
При нашем приближении зорянка вспорхнула и переместилась на самую высокую ветку ближнего куста.
— Ага! Испугалась!..
— Так она же не знает, что ты идешь с добрыми намерениями, а не с камнем в руке. От вашего брата все можно ожидать…
Володя не смущается и не возражает — это к нему не относится…
Второй день на Уень-реке мы начали с того, что снова взялись за удочки. Володе, как и вчера, везло на мелочь, он положил удочку и удалился к палатке. Я понял это так: чем заниматься чебаками, лучше посидеть за дневником, завтра этого уже не будет, а чебаков можно ловить в любом месте…
Я видел, как он достал из палатки дневник и уселся на кочке рядом с кострищем. Какие открытия он заносил на чистые страницы, я не знал, но мне казалось, что Володя видит и слышит все проявления жизни в окружающем нас мире. Вот на вершинах сосен Могильного борка появились первые лучи солнца, потом они упали на кусты, на травы, и всюду засверкали игривым блеском капельки росы. Голос маленькой зорянки уже трудно было различить в огромном хоре ее певчих друзей: трещали где-то в кустах серые дрозды, звонкой флейтой выражала свою радость иволга, пикали и свистели щеглы, тонким и ровным пунктиром чичикали камышевки-кузнечики, перекликались чечевицы: “Ваньку видел?”, взлетали и падали с песней лесные коньки, заливались варакушки, присваивая себе некоторые коленца соловьиной песни. А по камышам и прибрежным кустам, где я сидел, бесшумно перепархивали мухоловки и о чем-то тихонько разговаривали.