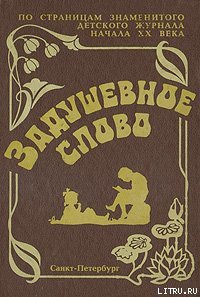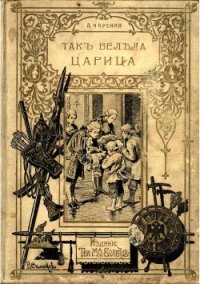Лесовичка - Чарская Лидия Алексеевна (читаем книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
— Что ты! Что ты! Мать Манефа услышит!
И смолкала, хоть ненадолго, а все же смолкала резвая девочка.
Все, что сколько-нибудь напоминало светскую жизнь, все старательно преследовалось в монастырском пансионе.
Иностранные языки, танцы и светское пение — все это было исключено из программы училища матери Манефы. Зато клиросное и церковное пение изучалось вовсю. Закон Божий, катехизис, богословие, история церкви, церковное пение составляли главные предметы. Остальное, как-то математика, география, история — считалось второстепенным. В свободные часы воспитанницам, в виде развлечения, давали читать жития святых и несколько книжек духовно-нравственного содержания, в которых рукой самой матери Манефы вычеркивались некоторые места, признанные строгой монахиней почему-либо «неудобными» для ее воспитанниц.
Открывая свой духовный пансион, мать Манефа втайне преследовала не одну только воспитательную цель; ее страстным желанием было как можно большее число пансионерок отдать в свою родную обитель и представить на служение Богу возможно более юных инокинь.
И мать Манефа, казалось, жила и существовала этой ее заветной мечтой.
Глава II
История с курицей. — Уленька. — Сатана
Одиннадцать девочек по-прежнему с неподражаемым искусством выводили покаянный псалом. Скупое зимнее ноябрьское солнце, прорезав тучу кружившихся за окном снежинок, заглянуло в классную. Одиннадцать юных пансионерок, склонив черненькие, белокурые и русые головки под белыми косынками, тщательно выводили тонкими, нежными голосами мрачные и грозные слова молитвы.
Игранова, Косолапова и Дар стояли, как отвергнутые, в стороне от прочих. Бледный луч солнца скользнул по белокурой головке Дар и шаловливо позолотил ее. Хорошенькая «змейка» подняла свои зеленые глазки. Черная Манефа мраморным изваянием стояла перед ней, чуть заметно перебирая кипарисовые четки иссохшими пальцами.
Но вот окончился псалом.
Красавица Лариса Ливанская, управлявшая хором, встала первая с колен.
— Матушка, что изволите еще приказать? — несмело прозвучал ее низкий, красивый голос.
— Ага, кончили?!
И Манефа быстрее затеребила четки, двигая сухими и желтыми, как воск, пальцами.
— Вы кончили?.. А я начинаю! — как-то значительно и зловеще проронила она. — Сестра Агния, расскажите все, как было дело! — обратилась она к своей помощнице.
Сестра Агния, маленькая, худенькая, длинноносая старая дева, за жалящий и колкий язык прозванная пансионерками «скорпионша», выступила вперед и заговорила быстро, торопясь и захлебываясь:
— Да как же, матушка, сами посудите: иду это я по коридору намедни мимо кухни и вдруг — запах жареного масла и словно курицы мне почудился. Это в посту-то!.. Вхожу. «Ты что, Секлетея, жаришь?»… А она как в ноги бух! «Не погубите, сестрица, не выдайте. Согрешила, что поделаешь?» Ну, тут я в класс отправилась и заявляю, что Секлетею-де вон надо, потому что она грех на всю школу накликала, в посту оскоромилась, себе на погибель, нам на соблазн. Иду, говорю, донести матушке. А они, вот эти негодницы, — тут сестра Агния ехидно скосила глаза на трех «преступниц», — Игранову, Косолапову и Дар, — а они тут и покаялись: «Мы, сестрица, виноваты, не гоните Секлетею, мы за курой ее посылали, проголодались, она ни при чем». Так-таки и отчеканили негодницы! Стыда в них нет!
И сказав это, сестра Агния укоризненно закачала своей головой.
Затихло в классе.
Гробовая тишина водворилась в нем.
Затем, среди мертвого молчания, прозвучал звонкий и серебристый голос Кати Играновой:
— Матушка! Не гневайтесь… Не скрываемся мы… Мочи не было, поесть захотелось, ну и послали за курицей…
— А… а… послали!.. Есть захотелось!.. — протянула начальница-монахиня, отчеканивая каждое слово по слогам, и стремительно приблизилась, волоча свой длинный черный шлейф по полу, к Катюше, схватила ее за плечи и грозно добавила, сдвигая брови:
— Во прах, негодница! Земные поклоны отбивать! Слышите, что выдумала! Голодно ей! Да зачем ты здесь?.. Ради того, чтобы плоть свою тешить, мамон яствами всякими набивать или ради спасения вечного?.. Ради радости и утехи духовной!.. Замаливай грех свой, негодница!.. Чела от земли не вздымай! Слыхала? А вы, все другие, за то, что не удержали от греха смрадного подругу, тоже кайтесь. По тридцати земных поклонов на каждую и с колен вплоть до ужина не вставать, грешницы, утешительницы дьявола, приспешницы суеты мирской!
И костлявый палец Манефы снова затрепетал в воздухе.
Снова одиннадцать девочек, как по команде, опустились на колени.
Черная, величественная, похожая на птицу, монахиня, не покидая своего грозного вида, поплыла из классной. За нею, мягко шурша по полу, поплыл длинный черный шлейф ее платья. За шлейфом мелкими шажками засеменила Агния.
Опять тишина воцарилась в классной.
Одиннадцать девочек стояли на коленях, покорно склонив головки, со скрещенными на груди руками.
Стало темнеть. Редкое осеннее солнце скрылось, и сумерки окутали мало-помалу угрюмую сводчатую классную. Из соседней комнаты доносился звон тарелок и лязг вилок и ножей.
— Ужин накрывают, — среди полной тишины прозвучал голос Играновой, и ее черненькая головка смело вскинулась на худеньких плечах. — Врет скорпионша. Небось, не она на курицу наткнулась, а эта галка-фискалка, Уленька, ей опять на хвосте сплетню принесла. Уж подожди у меня ты, Уленька!
— Тс! Тс! Катюша! Что ты! Безумная! Мы на «покаянии», а ей хоть бы что! В голос кричит! Да что ты, рехнулась, милая?
И Инна Кесарева, странная, милая девочка, лет 14, дернула расшумевшуюся Катю за ее черную ряску.
Инна Кесарева была вся седая вследствие перенесенного в детстве ужаса, о котором не любила говорить. Ее серебряная головка, недетски серьезное личико и грустный, странный, в самое себя ушедший взгляд производили на окружающих жалкое впечатление. Подруги любили Инну, прозвали ее «маркизой» за серебряную, несмотря на юность, головку и нежно заботились о ней. Чуткие детские сердца как бы желали вознаградить своею дружбою и заботами Инну за тяжелую драму, пережитую ею в детстве. И она своей серьезностью имела большое влияние на класс.
— Тише, тише, Катюша! Неровен час, услышит Уленька и опять донесет матушке, — еще раз предупредила она Катю.
— А пусть ее доносит! — беззаботно тряхнув черненькой, кудрявой головкой, произнесла та. — Пусть доносит!
— Катя! Катя! — послышалось со всех сторон.
— Что Катя? Родилась Катей и умру Катей! — внезапно вскакивая с колен, закричала Игранова, и ее живые, черные, как коринки, глаза заблестели и заискрились разом. — Довольно нам терпеть от галки-сплетницы! Пора проучить ее… Все на длинном хвосте матушке носит…
— Ты проучишь, что ли? — И высокая черноволосая Юлия Мирская, некрасивая девочка, лет 16, надменная, гордая, нелюбимая никем за ее дружбу с тою же злополучной Уленькой, злобно взглянула на расходившегося «мальчишку», т. е. Катю Игранову.
— Вы, Мирская, молчали бы и свой длинный нос не совали куда не следует! — резко ответила Игранова. — Вы девушка-чернявка при царице Уленьке и вам с нами о ней говорить не приходится.
Чернявка сделала гримасу, обезобразившую вконец ее и без того некрасивое лицо.
— Допрыгаешься ты когда-нибудь, Игранова! — процедила она сквозь зубы.
— И правда допрыгаешься, Катя… Молчи!
И красавица «королева» метнула на шалунью свои прелестные глаза.
— Ради вас, Ларенька, ради вас, королева моя, будет молчать Игранова! — произнесла порывисто-захватывающим голосом Катя.
Она давно и нежно боготворила Ларису. Пылкую, впечатлительную девочку прежде всего поражала и очаровывала красота Ливанской. Ларенька Ливанская казалась ей каким-то неземным существом. Ее дивные золотые, как у феи, волосы, ее плавная поступь и белые, удивительной красоты, руки, ее не то молчащие о чем-то неведомом другим, не то над кем-то таинственно подсмеивающиеся, полупечальные глаза — все это резко отличалось от прочих монастырских пансионерок. И не одна только Игранова преклонялась перед «королевой». На Ларису смотрели как-то особенно все вообще воспитанницы матери Манефы. Ею интересовались. О ней говорили. Ей подражали в манере говорить, кланяться, носить волосы, косынку. Ее совета слушались. Ее голос имел заметное значение среди «монастырок».