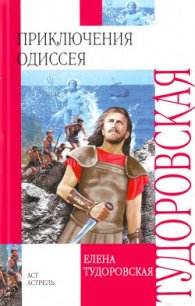Моя одиссея - Авдеев Виктор Федорович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
— Я не врач, Дора Моисеевна, но боюсь, что недуг, каким страдает Новиков, ни в одном вашем справочнике не описан. От всякой болезни люди худеют, так? А вот увидите, ваш пациент скоро начнет толстеть. Ему надо курс лечения пожестче, а то он никогда не выздоровеет. — Михаил Антоныч повернулся ко мне, закончил ледяным тоном: — Одним словом, тебе, Борис, трудно копать лунки? Ладно, найдем работу и сидячую — дам наряд чистить картошку на кухне. А если тебе станет еще хуже, сам отвезу в Киев: пусть там сделают просвечивание.
Я тут же дал себе слово, что мне хуже не станет. А то еще просветят в Киеве и увидят, что все кишки у меня чистые, а малярийных микробов всего несколько штук. Гляди, тогда и совсем вылечат. Михаила Антоныча я стал побаиваться. Ходил он в побелевшей под мышками красноармейской гимнастерке, в простых юфтевых сапогах и весь был такой пылающе-рыжий, что наш колонистский индюк, завидя воспитателя, всегда налетал на него, норовя клюнуть. Михаил Антоныч вечно выдумывал что-нибудь новое; никогда нельзя было угадать, с какой стороны от него защищаться.
Знойным полднем, вынося из кухни ведро с картофельными очистками, я увидел на дворе крестьянскую подводу. Сивоусый дядька с загорелым потным лицом, в бараньей папахе и английских латаных бриджах, вобранных в смазанные дегтем чеботы, сиплым басом уговаривал Дору Моисеевну:
— …Знахарку поклыкать — нэкультурно. А дочка мается: вот-вот родыть, а плод якось не так лэжить в животи. Людэ мени и кажуть: запрягай, Нечипор, кобылу, добежи до сирот в колонию, у них там есть ликарка, що по жиночим болезням. Вона допоможе. Га? Йидемтэ, будь ласка: а я вас поросеночком отблагодарю. Тут до нашей Велыкой Олександровки всего три версты, вон церкву видно. Га? Будь ласка.
— Это верно, я врач-гинеколог, — думая о чем-то, проговорила Дора Моисеевна. — Правда, сейчас я не практикую, но… что поделаешь: помочь вам надо. Ладно, подождите, я пойду возьму инструменты, халат.
Вскоре она вышла с маленьким чемоданчиком, села в набитую сеном телегу, и сивоусый дядька погнал свою кобылу на дорогу. Вот, оказывается, какая специальность была у нашей докторши! Надо сказать, в нашей колонии она ей не пригодилась.
В селе Велыка Олександровка находилась и ближайшая от нас школа: туда мы должны были с осени ходить учиться. В конце лета Михаил Антоныч решил выявить знания воспитанников: кого в какой класс посылать. Вечером после ужина он собрал нас в зале и стал расспрашивать, кто где учился, кто что знает, кому что нравится в жизни.
— Ты что любишь делать? — спросил он Митьку Турбая.
Митька ухмыльнулся во весь рот, огляделся по сторонам и громко, с довольным видом ответил:
— Конхвэты йисты.
— Подходящий вкус, — усмехнулся воспитатель. — Ты в школе учился?
— О! Хиба ж я паныч? — ответил Митька, удивляясь, почему все хохочут.
— Что не похож, то не похож, — пробормотал Михаил Антоныч. — Ответь нам, Турбай, кто управляет нашей страной?
Митька подумал:
— А участковый милиционер же.
Когда удалось унять новый взрыв смеха, воспитатель стал расспрашивать других ребят. Конечно, все знали о Совнаркоме, о Ленине, по болезни жившем в Горках под Москвой. Однако, видимо, и другие колонисты не поняли поставленного воспитателем вопроса, кого что влечет, потому что большей частью отвечали: «крикет», «в шашки играть», «кинематограф».
Очередь дошла до меня.
— А ты, Борис, что любишь?
Я встал, скромно и с достоинством ответил:
— Химию.
Мало кто слышал это слово, и все удивились. Я стоял, гордый своей ученостью. Воспитатель заинтересовался:
— Что же тебе известно из химии?
— Все, — ответил я. — Вот ребята тут думают, что в небе совершенно ничего нет, просто пустота, а там — химия. Газ кислород, который мы глотаем и живем. Наука эта состоит из элементов.
— И ты их знаешь?
— Понятно, знаю. Воду, например. Она сложена из двух заглавных букв «Аш» и одной буквы «О». Это есть вода.
Колонисты смотрели на меня с немым изумлением. Воспитатель спрятал под усами улыбку. Продолжать дальше я не мог, так как, к досаде, ничего больше не упомнил, из того, что слышал в бывшей Петровской гимназии. Первый раз я пожалел, что тогда на уроках стрелял из камышовой трубки жеваной бумагой и играл в перышки.
— Ну, а что ты, Борис, еще умеешь? Со мной воспитатель разговаривал дольше, чем с любым другим колонистом; я рос у всех на глазах.
— Рисовать.
— Да? Это очень интересно. Чем?
Вопрос несколько сбил меня с толку. Как чем? Конечно, карандашом и водяными красками. Однако я где-то слышал, что заправские художники вообще не «рисуют», а «пишут», и при этом почему-то не за столом, а стоя перед каким-то мольбертом. Может быть, у них есть еще и специальные машинки вроде фотографического аппарата?
— Пока рисую просто одной рукой, — ответил я. — Вот этой, правой.
— Я не о том, — уже не сдержал улыбки Михаил Антоныч. — Чем ты рисуешь: маслом, акварелью, гуашью?
Я весь вспотел. Гуашью? Что это такое? Никогда не слыхал и похожего слова. Не хочет ли Козел меня просто подпутать? Умею ли я рисовать маслом? Каким: постным или скоромным? Вот уж не видал, чтобы в бывшей Петровской гимназии кто-нибудь рисовал маслом. Может, какие заграничные художники из буржуев? Я почувствовал явный подвох и, понимая, что начинаю тонуть, бухнул первое попавшееся:
— А чем хотите могу. Хоть и салом.
Михаил Антоныч закашлялся от смеха, и лицо его стало краснее собственных волос. От волнения глаза у меня начали косить в разные стороны.
— А как ты ри… рисуешь: копии делаешь или с натуры?
— Моя натура тут ни при чем, — ответил я, уже начиная трусить. — Если не с коровами, не на шалфее… так это малярия, а не натура. Чищу ж я картошку на кухне, когда здоровый? Наверно, вы думаете, что я художник лишь мелом на заборе? Или… насчет копировать? Через переводную бумагу я копировал, когда еще учился, а сейчас могу и совсем из головы.
— Попробуй-ка вот грифелем на доске. Чего хочешь.
Я нарисовал своего излюбленного донского казака на коне, с пикой, шашкой наголо. Колонисты громким шепотом выразили мне свое восхищение: «Эх, ловко!», «Вот это Борька понахудожничал!» Впервые потеплел ко мне и Михаил Антоныч: кажется, до этого он считал, что я самый обыкновенный врун. Он положил мне на плечо свою тяжелую руку:
— Способности у тебя, Борис, налицо. Если их развить, возможно, что-нибудь и действительно получится. Чего ж ты раньше молчал? Мы с хлопцами попросим тебя к Октябрю оформить наш клуб. Умеешь писать плакаты? Нет? Я покажу.
Неделю спустя заведующий колонией Эдуард Иванович Салатко привез мне из Киева палитру акварельных красок и александрийской бумаги. Богаче подарка мне еще никто в жизни не делал. Я сразу тушевальным карандашом «негро» нарисовал на огромном листе портрет Фритьофа Нансена. Портрет торжественно вывесили в зале, и в этот день я стал самым знаменитым человеком в колонии; такой славы у меня уже нигде и никогда больше не было.
Работа на кухне оказалась на редкость нудной: целый день я должен был сидеть в душном полуподвале на сосновом чурбаке и чистить картошку. Вмазанный в печку чан напоминал слоновье брюхо: я никогда не мог его наполнить, и повариха костерила меня на чем свет стоит. Для рисованья мне оставался только «мертвый час», установленный колонистам после обеда. Но что такое один час охваченному азартом «художнику»? Едва я разложу на подоконнике краски, бумагу, поставлю воду в баночке из-под ваксы и, забравшись с ногами на койку, возьму кисть, как проклятый звонок начинает звонить словно на пожар, надо все бросать и отправляться на работу. О сельских электростанциях в те годы на Украине только мечтали, довольствуясь керосиновым освещением. Ламп у нас в колонии имелась целая дюжина, а вот стекол уцелело всего три, поэтому в палатах мы завели коптилки — керосиновые банки, налитые «гасом», с фитилем, скрученным из бинта и продетым через сырую картофелину. Пробовал я рисовать ночью при этом «факеле». Краски совершенно меняли цвет, да и сильно резало глаза. Я понял, что это не жизнь. Как найти выход?