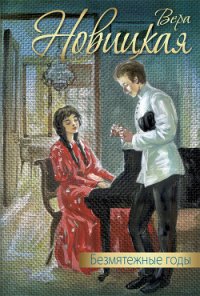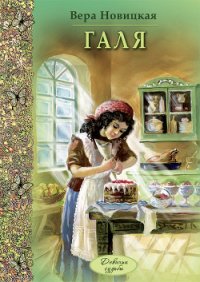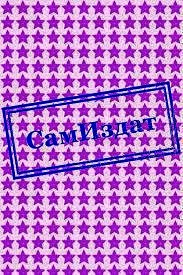Хорошо жить на свете! - Новицкая Вера Сергеевна (читать полную версию книги txt) 📗
Быстро мчались они, и вот Эльда уже может различить целый сонм маленьких ангелочков, a впереди лучезарную фигуру шестикрылого Херувима. Малютки витают вокруг снежной вершины, a Херувим спускается к Эльде и, осенив ее своими крыльями, говорит:
— Дитя, чего ищешь ты на этой выси, куда еще не достигала нога смертного?
И, склонившись перед ним, Эльда вылила ему всю свою наболевшую душу, все ужасы и злодейства, какие творил её отец.
Херувим слушал рассказ ребенка, и тихое страдание разлилось по его кротким чертам, при вести о всех жестокостях, что творятся на земле; светлые алмазные слезы покатились из его ясных очей, и одна из них упала прямо на ветвь, которую держала в руках малютка.
От прикосновения этой небесной влаги бутоны широко раскрылись и превратились в крупные белоснежные колокольчики, которые распространяли райское благоухание и дрожали от малейшего колебания воздуха, издавая при этом нежный серебристый звон.
В нем было что-то необычайно трогательное и захватывающее душу, что-то умиротворяющее, зовущее куда-то, пробуждающее дремлющие струны людского сердца.
Тихо и плавно взмахивая крыльями, стал подниматься Херувим, a следом за ним и сопровождавший его сонм ангельчиков.
Эльда осталась одна. Она бросилась на колени и воздала хвалу Всевышнему.
Легок и радостен был обратный путь Эльды: с нею была святая Ветка Мира, которая охраняла ее от всякой злобы и несчастия.
Чудовища расступались и спешили укрыться в глубь, лишь издали услышав нежный, серебристый звон. Дикие хищники в девственном лесу покорно склонялись перед девочкой с чудным талисманом. Могучий лев подошел к Эльде и, ласково глядя на нее, лег у её ног, приглашая девочку сесть на его сильную спину. И Эльда, без боязни, доверчиво села на покорное животное. Через весь лес, весь долгий и утомительный путь животное бережно несло ребенка и его чудную ношу на своей могучей спине; и все гады и звери расступались, чтобы дать им дорогу, a птички звонко и радостно заливались в пышных изумрудных ветвях.
Близко уже Эльда к дому. Вот вступает она в громадный сад свой, где слышались стоны, где совершались в ту последнюю ночь страшные дела… Вот перед домом и отец её.
Колокольчики тихо, чуть слышно колышатся на стеблях; как легкий шелест раздается их звон. Но как ни тих был он, все же достиг до слуха Коруллы, и что-то дрогнуло, что-то ответное зазвенело в его не знавшей милосердия душе. С ласковой, теплой улыбкой поспешил он навстречу дочери. Он почувствовал, что она дорога ему, ощутил нежное чувство любви, затеплившееся в его холодном сердце. Сильным объятием привлек он Эльду на грудь свою, и что-то влажное засветилось в его всегда суровых очах.
Теперь уже никто не обходит и не чурается владений Коруллы. О прежнем там нет и помину. Подвалы — сокровищницы вскрыты, добро роздано всем неимущим и нуждающимся. В подземельях не слышно больше стонов и плача: все несчастные узники освобождены, все имущество возвращено им. Не может только Корулла возвратить жизней, отнятых им у его жертв.
Денно и нощно молится Корулла, кается в своих тяжких грехах, приносит искупительные жертвы.
Далеко на всю окрестность виднеется возвышающийся на четырех столбах купол храма, возведенного им. Длинные и торжественные службы справляются там. Все дивятся и любуются роскошью и великолепием его убранства, но еще больше дивятся чудной белой ветке, возвышающейся на алтаре. Ветка разрастается, серебряных колокольчиков прибавляется все больше и больше. Их чудный звон раздается и разносится далеко за решетчатые ажурные стены храма. И нет души, которая бы не содрогнулась от зла, услыша этот звон, нет сердца, в котором бы в ответ на эти неземные звуки не пробудились и не дрогнули бы самые лучшие, самые сокровенные струны.
Тихо и мирно, в посте и молитве доживает Корулла свою бурную жизнь на попечении своей кроткой и любящей дочери. Недаром прожила она на свете: своими жертвами она спасла душу отца, привела на путь добра и правды тысячи людей.
Широко разрослась «Ветка Мира»; все дальше и дальше разносится её благовест. Настанет ли, наконец, день, когда вся вселенная сможет услыхать этот призывный звук добра и смирения?
Жутко становилось, слушая ее. Когда она начала, были еще сумерки, но потом взошла луна, и все кругом казалось таким таинственным-таинственным, точно и кругом нас сказка.
Мы все так внимательно слушали, даже дышать громко боялись, чтобы не пропустить ни одного слова. A послушать было что.
Я, как закрою глаза, совсем ясно могу себе представить и подводное царство, и малюток, и дивные прозрачные голубые лилии… Господи, как красиво! A когда спускался херувим со стаей ангельчиков!.. Мне кажется, что издали это должно было походить на много-много больших блестящих снежинок, как они иногда в сильный мороз так и блестят…
И я даже не знаю, которая сказка лучше: вспомнишь эту — эта кажется красивее, подумаешь об той — та. Какое громадное удовольствие доставила мне мамуся! Милая, дорогая!..
Может быть кто-нибудь, читая мои воспоминания, вообразит, что обе сказки я записала с мамочкиных слов? Ну, и ошибается же он! Сохрани Бог! — во-первых, это было бы ужасно долго, a во-вторых, разве бы я все так хорошо запомнила? Я бы такой «отсебятины» понаписала, что наверно и мамочка бы своей сказки не узнала. Нет, я устроилась гораздо хитрей: выпросила их у мамочки уже написанными, а, если кто-нибудь будет печатать мои воспоминания, тот пусть и впишет сказки в то место, где у меня только заглавие стоит. Вот еще, стану я сама так много писать!
Чудный сон. — Чаепитие. — Пожар
Всю ночь сегодня мне такие чудные сны виделись: много-много каких-то беленьких детей, блестящих, легких, и в руках у них большие серебряные обручи обвиты крупными белыми колокольчиками; они танцуют, a колокольчики звенят нежно, точно поют; и я пою вместе с ними и тихо-тихо плачу… Как проснулась, даже подушка мокрая была.
Но долго вспоминать о моем сне мне не дали, a посадили за французскую диктовку, a потом за арифметику. Слава Богу, дело идет на лад, да и пора уж, экзамен-то на самом носу.
Не знаю, отчего Ральф так невзлюбил сразу Володю; верно оттого, что тот вздумал его дразнить стал шипеть и рычать, ну, a мой песик терпеть не может такой музыки. Теперь он Володе двинуться не дает: Володя на «гиганты» — Ральф его за невыразимые, Володя на качели — Ральф его за ноги, лает и так и прыгает на него, a я справиться с ним не могу, да мне и самой смешно.
Вечером мы решили устроить чаепитие в нашем «Уютном» и наставить мой собственный маленький самоварчик. Сказано — сделано.
После обеда мы выпросили у мамочки чаю, сахару, печенья, варенья и молока, забрали самовар и посуду, и потащили все это в «Уютное»; накрыли стол и приготовили посуду; поставили самовар около стола, наложили туда углей, потом зажгли щепки, все как следует; жаль вот, трубы не было. Вечер был тихий, но темный.
Мы всей компанией в ожидании самовара уселись на травке спиной к домику под большой старой ли пой. Мальчики стали рассказывать всякие преуморительные анекдоты из гимназической жизни. Сережа говорил, что учитель географии вызвал одного ученика и спрашивает название какой-то реки, a тот никак вспомнить не может: «ах»! говорит: «так вот на языке и вертится»!.. a другой кричит ему на весь класс: «так покажи язык, и дело с концом»! A во время французского урока одному мальчику учитель велел сказать будущее время от плакать, тот и говорит: «je pleuvrai, tu pleuvras, il pleuvra». Мы, конечно, страшно начали смеяться, вдруг видим: что это так светло сделалось! Поворачиваемся, — a домик наш почти весь в огне! Мы вскочили, бросились гуда, — все горит! Испугались мы страшно, но не растерялись, схватили лейку и стали ей черпать воду из ушата, который тут всегда стоит целый день на солнце для поливки цветов. Но огонь не уменьшался, и скоро стало так светло, что все выбежали из дому на место пожара. Страшного ничего не было, потому что близко никаких построек нет, только забор немного захватило, и его сейчас же дворник залил, но две больших чудных липы, между которыми был наш домик, порядочно пострадали, a наше милое «Уютное» сгорело все дотла; уцелела лишь моя плита, да самовар, но и те были в очень некрасивом виде. Хотя опасности и не было никакой, a все-таки всем было страшно, все такие бледные-бледные стояли.