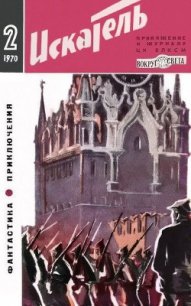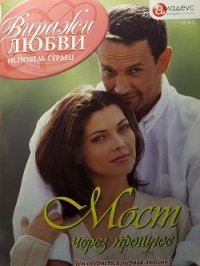Мост через овраг - Корпачев Эдуард (читать книги без регистрации полные txt) 📗
— Фрау Гильда предлагает кофе. Не откажешься, Казя?
— Хорошо! — согласился он. — Только я сбегаю, скажу лейтенанту Езовитову. Чтоб он… Я сейчас!
«Тыча, Тыча, умница Тыча! Здесь из неё рабыню хотели сделать, а она вон какая гордая… И не она, а фрау здесь рабыня!» — горячо думал он, с непокрытой, стриженой головой, зажав пилотку в руке, трусцой поспешая в комендатуру и всё видя перед собой лебезящую, взволнованную немку и спокойную победительницу, худенькую, измученную Тычу.
— Товарищ лейтенант! — ещё с порога, едва миновав расступившуюся безропотную очередь, гласно обратился он. — Я на минуту, я хочу предупредить, что буду на Кенигштрассе, 19. Ну, маленькое угощение, товарищ лейтенант… Нет, не думайте, что водка, а просто кофе! Тут моя учительница, я же вам говорил, товарищ лейтенант, вот как бывает!
Он выпалил с восклицаниями все эти слова, удивляясь тому, что они как будто не потрясают лейтенанта Езовитова и что лейтенант как будто не спешит познакомиться с его учительницей, с Тычей, и перемолвиться с нею на непонятном языке. Пускай бы они вдруг заговорили, блеснули знанием чужого языка — его учительница Тыча и его друг Езовитов!
— Ах, да, — спохватился Езовитов, — твоя учительница английского… — И повторил как раз то же самое, что он, Казимир, уже слышал здесь, в комендатуре: — Вот и вернулся ты домой, солдатик…
Так надеялся Казимир, что и лейтенант, позабыв на время комендантские дела, пойдёт с ним праздновать это его возвращение домой, он бы счастлив был показать учительнице своего командира, но Езовитов сожалеюще пожал плечами, отчего приподнялись крылышками погоны, и стал из письменного стола, из недр его доставать шоколад в лаковой обёртке, едва уловимо звенящий фольгою при падении на стол.
И сержант Гравишкис, озорной литовец, сидевший за другим столом в этой великолепной белой комнате, тоже приподнялся, посмотрел синими глазами и подошёл, подражая чёткой, красивой походке Езовитова и неся в каждой руке шоколадную плитку.
На эти сладости Казимир глядел с восторгом, благодаря неслышными словами своих командиров, старших друзей, но произнёс он с испугом, с возмущением даже:
— Нет, что вы, Езовитов! Это не нужно, это же не там, не дома… Вы же знаете, каким шоколадом кормили фрицы в концлагере! Она подумает… Она может подумать, что я от голода её спасаю… Она гордая! Она… Нет, не надо, Езовитов, ей больно будет!..
И сам уже с болью посматривал на эти неприкосновенные шоколадки и почему-то представлял, какие они, если снять обёртку, твёрдые, тёмно-каштановые, с выпуклостями и ровными межами и как долгое время потом фольга сохраняет запах какао.
Нет, Светлана Никифоровна останется гордой и не испытает неловкости от подношения, он, Казимир, тоже загордился оттого, что угадал её состояние, и потому так охотно возвращался к ней на Кенигштрассе, 19, всё-таки немного сожалея о неприкосновенных шоколадках.
И ещё раз ему пришлось в сердцах пожалеть об оставленном на столе коменданта шоколаде уже в доме у фрау Гильды, когда она подавала, робея взглянуть на него, кофе, подёрнутый ржавой пенкой, и таблетки сахарина, похожие на лекарство. Казимир никак не мог ухватить толстыми, грубыми пальцами окаменевшие снежинки сахарина и подосадовал, притопнув сапогом, на то, что постеснялся захватить хотя бы одну плитку, — пускай бы Светлана Никифоровна с усилием, прижимая плитку к груди, ломала шоколад!
Но чего только нет у солдата, и Казимир без колебания похлопал по карманам, осязая твёрдое, вытащил замусоленный кусок колотого сахара с прилипшим к нему табачным волоконцем, а учительница осторожно приняла в свои руки драгоценный осколок, в удивлении отделила от него табачное волоконце:
— Казя, ты уже и куришь?
Тут, сощурив глаза, он и захотел с наигранным раздражением заметить, что он не только курит, но и воюет, что он стреляет вот из этого автомата и убивает, что он солдат, солдат, и не курить солдату было бы тяжко. Ах, как удивляет вас, милая Тыча, что солдаты, если даже и малолетние, тоже курят, а пускай удивляет вас другое: как скатываешься с брони танка и бежишь, то падая ниц, то прижимаясь к цоколям зданий, и строчишь, строчишь, отвоёвываешь улицу за улицей, врываешься в занятые гитлеровцами дома, отвоёвываешь каждый лестничный пролёт, а после всего, оставшись в живых, просишь у какого-нибудь солдатика с закопчённым лицом затянуться разок…
Он шаркнул по лицу ладонью, пытаясь уловить шуршание отрастающей щетинки, и очень захотел предстать перед учительницей грубым, навоевавшимся солдатом, потому что и вправду навоевался за свои шестнадцать лет, пока шёл с боями от партизанской зоны до этого городка, и всякое видел: спал рядом с убитым, а теперь вот ест из котелка убитого! Его даже по-настоящему разозлило то, что Светлана Никифоровна как будто не принимает в расчёт его оружие, пилотку и погоны, а помнит школьником, пацаном.
Но, взглянув на её фарфоровую детскую руку с драгоценным сахаром на ладони, на её влажный лоб, он устыдился своего желания хвастать, делиться привычными былями фронтовика и понял, что память её переполнена ужасами, несовместимыми со всем прежним, довоенным, и что она борется с этой злой памятью, стараясь вернуть спокойные довоенные видения — себя в той жизни и учеников той поры. Ведь она сама, едва они узнали друг друга, обронила, что вот и вернулась домой!
«Вы простите, простите, Тыча!» — покаянно сказал он без слов, потому что обжигался, давился чёрным горьким кофе, а через мгновение всё же выдохнул тёплым ртом, стараясь быть сейчас с нею вместе там, дома, на днепровской пристани:
— А чего… Светлана Никифоровна, а чего вы тогда не остановились, когда меня из коридора увидели? Вы проходили по коридору, а я по лестнице лез, уже под самую крышу, и вы меня увидели из окна, засмеялись и пошли по коридору. Почему?
— Ну как же, я помню, помню, Казя! — коснулась она своей невесомой рукой его плеча, его погона, вся подаваясь вперёд, точно желая выпытать, а что же дальше произошло там, там, вдалеке, на той отнесённой временем, войной пристани, и сама же нетерпеливо задумалась, словно искала, допытывалась у себя, почему она тогда, увидев за окном на железной лестнице мальчишку, усмехнулась и пошла по коридору.
Казимир впустую глотнул уже допитый, несуществующий кофе, тут же немка наклонила над его чашкой кофейник, колеблемой чёрной струйкой доливая чашку, а он держал этот кофе, от которого прояснялась память, прояснялось прошлое, видел всё то, что произошло там, потом, когда он не стал спускаться с лестницы в руки ребят, а взобрался на крышу, по жестяной погромыхивающей крыше, разведя руки для равновесия, осторожно, как канатоходец, прошёл до чердачного окна, проник внутрь и в потёмках чердачного запустения блуждал в поисках надёжного выхода. И вот теперь он понял, что видения прошлого будут бесконечно испытывать его терпение, пока он будет сидеть в этом городке, и что на фронте проще, лучше, там не до воспоминаний.
— А всё лейтенант! — в досаде сказал Казимир. — Знаю, всё боится за меня, бережёт, а сам знаете что, Светлана Никифоровна, сказал мне? «Бережёшь от пули — не убережёшь от ожесточения». Вот его слова. Нет, как мне не повезло, Светлана Никифоровна, я застрял тут в самый последний момент!
— Ну почему не повезло? — возразила Светлана Никифоровна. — Разве это не везение, что мы встретились, Казя? Я и не думала там, в лагере, что кого-то из нашего городка увижу… А ты ко мне сразу по-английски!
И ей впервые удалось улыбнуться жалкой, неумелой улыбкой, и она, видимо прислушиваясь всё к звучанию тех английских слов, которые он единственно только и знал, уже опять жила там, на днепровской пристани, где высокая школа с лестницей на отлёте, с этой железной лестницей, на которой всегда полно ласточек.
— А ты, Казя, помнишь английский, — всё удивлялась она, учительница, тем первым его словам, которые он произнёс по-английски.
И у него, Казимира, появилось тщеславное желание что-нибудь сказать ещё, какую-нибудь фразу, удивить и обрадовать свою учительницу, он мучительно стал припоминать её прошлые уроки английского языка, необязательные, лёгкие, как праздники, представил даже обложку учебника с надписью «English». Он пристально, как после тяжёлого сна или контузии, взглядывал на всё в отдельности, подыскивая английское слово. Он задерживался взглядом на золотистых портьерах, слегка выпуклых, точно поддуваемых ветром, переводил взгляд дальше, на шкафчик со стёклами, на котором теснились статуэтки, белоснежные амурчики, ему казалось наконец, что он знает, знает, как по-английски будет хотя бы этот круглый стол, тоже покрытый золотистой плюшевой скатертью, такой мягкой, как шёрстка, — и всё же ничего более не мог он припомнить.