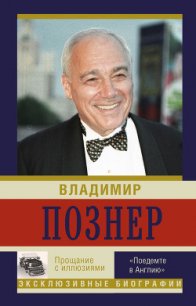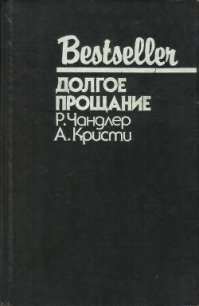Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки - Левинзон Гавриил Александрович (чтение книг .TXT) 📗
На этот раз я надел дербервилевский кримпленовый костюм и пышным узлом повязал дербервилевский галстук.
На улице праздник был виден во всем: две сентябрьские хорошо подобранные чистенькие тучки вывешены были в небе, пониже мир украшала телевизионная вышка, вымытая предпраздничным дождем, прохожие тащили кто в одной, кто в обеих руках консервированные томаты в красивых банках с блестящими крышками. Я прошел мимо двух моих недоброжелателей, которые высказывались по поводу моего галстука и, видно, жалели, что нет у них ничего подходящего под рукой, чтоб запустить в меня. «В Лондоне нет порядка, — подумал Дербервиль. — Чернь обнаглела».
В доме у Геннадия Матвеевича были большие перемены: вместо коврика, который можно было причесывать, над кроватью висел другой — с узорами, напоминающими то ли бутылки, то ли пингвинов; вместо половичка с чернильными пятнами лежала вполне приличная вещица, на которой хотелось постоять. Да что там! Шкаф новый стоял! Новая настольная лампа на письменном столе изгибалась по-лебединому! Много еще я заметил перемен.
А вот Геннадий Матвеевич лежал в постели.
— Виталий, — сказал он, — я прилег ненадолго, чтоб не улечься навсегда. Садись возле этой лежанки и не смотри на Зиночку, пока глаза у нее не просохнут. Ты удивишься, когда узнаешь, из-за чего она плачет.
У жены Геннадия Матвеевича глаза в самом деле были заплаканы. Она начала разрезать диковинный торт — наверно, московское изделие, — открыла коробку с диковинными пирожными.
— Мы теперь богачи! — сказал Геннадий Матвеевич. — Зиночку это взволновало: она боится, что мы не успеем истратить все наши деньги. Попрекает меня: «Почему ты раньше не продал марки?»
— Ну уж! — сказала жена Геннадия Матвеевича. — Не попрекаю я! Но обидно — это правда.
Мы пили чай с диковинным тортом и необыкновенными пирожными. Геннадий Матвеевич не стал садиться за стол, а устроился, сидя в постели. Он все говорил о сюрпризах, которые меня ожидают. «Как хорошо, — думал я, — быть достойным человеком: достойному человеку сюрпризы готовят, ради него вон какой тортище разрезают». Сюрпризов оказалось два: красивая авторучка с золотым пером — такой ни у кого в нашем классе нет — и двенадцать марок, о каких я даже не мечтал.
Мы рассматривали мои новые марки и говорили о них — они заслуживали долгого разговора; ручку мы разок дали подержать жене Геннадия Матвеевича — она провела блестящим колпачком себе по щеке и сказала: «Ах какая!» Тут я не выдержал, забрал у нее ручку и себе по щеке провел. И чего было торопиться?
Потом была музыка. Проигрыватель был все тот же, из далекой эпохи, но пластинка звучала новая, концерт Сен-Санса. Геннадий Матвеевич предупредил, что во второй части будет одна изумительная тема. Сен-Санс он вроде Шуберта: с разговорами подступает, все он доказывал, что хотя кругом и хорошо, и филателический праздник на улице, и марки в конверте, и паркеровская ручка на столе лежит, но все же… Я взглянул на Геннадия Матвеевича и понял, на что Сен-Санс намекает. Я не люблю, когда со мной об этом разговор заводят. Не очень это меня интересует сейчас — болезни и это самое… Что там еще Сен-Санс имел в виду? Смерть, конечно. Об этом еще успею. Сен-Санс со мной согласился и еще раз проиграл радостно и задорно замечательную тему во второй части.
Но стало ясно: разговор он затеял неделикатный.
— Виталий, — продолжала жена Геннадия Матвеевича этот разговор, — у него был сердечный приступ: он прямо на улице упал.
Геннадий Матвеевич сделал знак рукой: об этом не надо.
— Если вдуматься, — сказал он, — то в смерти нет ничего трагического.
Я, конечно, возражать не стал. Но, по-моему, если уж вдуматься, то получается вот что: один родной человек с цветами лежит, а другой идет следом, провожая его навсегда, и они даже как следует попрощаться не могут: тот, что с цветами, уже ничего не понимает. Уж и не знаю, как это получилось: я представил себе Геннадия Матвеевича лежащим с цветами, а его старая жена провожает его в последний путь. Но нельзя же так! Он мне марки привез, ручку, а я его с цветами представляю. Да и жену его одну на свете оставил. Я решил себя наказать за это: представил и себя с цветами, а за мной с плачем идет моя жена. Я присмотрелся к своей жене и понял, что это Света Подлубная. Интересно все-таки в жизни получается: обзывала пронырой, говорила, что я неприятный человек, а потом за этого проныру замуж вышла. И вот как убивается. По плохому мужу так убиваться бы не стала.
Уже можно было уйти, но я понял, что старикам не хочется оставаться одним. Я долго еще у них сидел.
Когда я опять появился на улице, филателистический праздник был уже отменен по случаю болезни Геннадия Матвеевича, тучки с неба были убраны, от всего праздника только и осталось, что томаты в стеклянных банках.
В правом кармане у меня было весело: там марки лежали, в левом тоже: там паркеровская ручка до времени пристроилась, а вот на душе неспокойно. Я начал подозревать, что опять впадаю в суеверия: Высокий Смысл не шел из головы. Я понимал, что это из-за Сен-Санса, но сладить с мыслями не мог. Высокий Смысл мне даже представляться начал усатым мужчиной с картины, которую я где-то видел. Костюм средневековый, лицо надменное, и мне — ни словечка. С Геннадием Матвеевичем он так себя не ведет. Обидно, когда тобой пренебрегают. Но вот я заметил, что губы его дрогнули в загадочной улыбке. Не так уж он плохо, наверно, ко мне относится. Я уверен был, что Геннадий Матвеевич подарил мне марки и ручку по его распоряжению. «Ладно, пусть подальше держится, — решил я. — Лучше все-таки с ним в личные контакты не вступать: вот что он с Геннадием Матвеевичем делает — что хочет!»
Тут я опомнился и затряс головой, чтоб переключить себя на научное мировоззрение.
О том, как в одну минуту я себя покрыл несмываемым позором, после чего в паническом состоянии стал совершать совсем уж бессмысленное. В конце этой главы речь пойдет о пагубном влиянии музыки на человеческий организм
Я вспомнил, что Света Подлубная сегодня празднует свой день рождения. Вчера на классном часе мама Хиггинса поздравила ее, а Света прошлась по рядам и положила перед каждым три конфеты — так заведено в нашем классе. Потом она всех пригласила на завтра к себе домой. Все, конечно, не придут. Вот Зякин, скажем, — как он может к ней пойти? «Света его терпеть не может и однажды сказала ему прямо в глаза, что у нее настроение портится, когда она его видит. Наберется еще много таких, кто не пойдет, потому что они сбоку припека, из другой компании, в другие дома ходят. Я всегда у Светы на дне рождения бывал, и теперь меня потянуло к ее дому.
Я выбрал место для наблюдения в скверике за кустами бузины.
Сперва появились пшенки. Они по очереди несли свой подарок, большущего розового пуделя из плюша. Пшенки долго топтались у парадного и спорили, кому подарок преподносить. Потасовку устроили. Кто не знает пшенок, подумал бы, что они ссорятся. Но нет, просто им охота побороться, они все дела так решают.
За пшенками появился Сероштан. Оказывается, он в кармане зеркальце носит. Он погляделся в это зеркальце, причесался, а перед тем как войти в парадное, зачем-то дрыгнул ногой.
Люсенька Витович прошла с озабоченным видом, она несла в подарок какую-то книжку. Мишенька и Горбылевский окликнули ее, и они вошли в парадное вместе.
Потом появился Генка Бугера, несчастный человек: родители его до того жадные, что никогда ему дня рождения не справляют и на подарки денег не дают. Бугера в парадное не вошел, а стал ждать какого-нибудь доброго человека, чтобы тот вручил Свете подарок от своего имени и от имени Бугеры. Первый подарок — его нес Марат Васильев — Бугеру не устроил: совсем уж маленькая была вещица, трехцветная шариковая ручка, кажется. Зато сразу же за Маратом появились Хиггинс и Чувал с громадным подарком плюшевым медведем невероятного цвета. Бугера бросился к ним, переговорил я слышал, как Чувал сказал Хиггинсу: