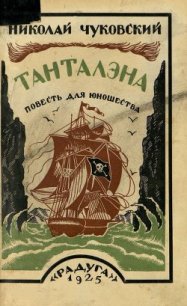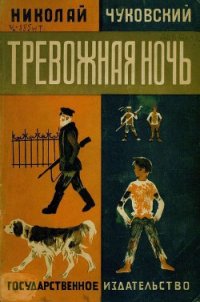Домик на реке - Чуковский Николай Корнеевич (бесплатные версии книг .txt) 📗
Смеясь, рассказывая, мама все вымыла. Перенесли кушетку, нашли в коридоре кухонный столик и поставили на то место, где прежде стоял папин письменный стол. Мама открыла корзину и вынула оттуда коврик.
Этот коврик Коля знал с тех пор, как себя помнил. Он висел когда-то на стенке в этой комнате. На нем вышиты были белки: одна глядит вправо, другая — влево, третья — опять вправо, четвертая — влево, и так дальше. Этих чередующихся белок Коля, когда учился говорить, прозвал почему-то «вери-мери». Так коврик этот до сих пор мама и Коля называли «вери-мери».
За время войны они часто переезжали с места на место, жили во многих чужих домах, и всюду мама прежде всего вешала на стенку «вери-мери». И в чужой, непривычной комнате сразу появлялось что-то родное. Этот коврик был как бы частицей их дома, всюду следовавшей за ними.
Теперь «вери-мери» повесили над кушеткой, на то самое место, где он висел когда-то.
Стол накрыли клеенкой и придвинули к нему самую большую корзину — вместо стула. День кончился, уже темнело. Взорванная немцами электростанция еще не работала, и Агата принесла коптилочку — аптечную склянку с фитильком. Коптилку поставили на стол, на то место, где когда-то стояла папина лампа, и на фитильке вспыхнул огонек, словно желтая капля. И едва вспыхнул огонек, на стенах зашевелились тени — мамина и Агатина, — совсем так, как до войны.
И вдруг Коля вспомнил, как он лежал вот в этом углу на кровати, и огромная папина тень, слегка качающаяся, чернела на стене, задевая головой потолок. Сейчас этой тени не было, и никогда уже не будет.
Слезы подступили к Колиным глазам. Но он справился с ними. Он никогда не плакал при маме.
— Мама, я пойду погулять, — сказал он.
Ему не хотелось, чтобы мама поняла, о ком он думает.
4
С тех пор как из штаба партизанских отрядов пришла бумажка, в которой сообщалось, что папа погиб, мама и Коля никогда о нем не говорили.
В первые дни гибель его казалась такой страшной, что они просто не могли выговорить ни одного слова о папе. А потом это вошло в обычай, образовалась как бы преграда, которую ни он, ни она никогда не переступали. Они щадили друг друга.
Но им и не надо было говорить о нем. Коля безошибочно угадывал по маминому лицу, когда она думала о папе. Она думала о папе почти всегда. Она ничем не выдавала себя — говорила о карточках, о булочной, о погоде, о штопке чулок, но Коля знал, что все ее слова значат одно: папы нет.
Она никогда не плакала — ни в первые дни, ни потом. Соседки в Челябинске возмущались и считали ее бесчувственной. Но каждую ночь она стонала во сне. Она стонала чужим, незнакомым голосом, совсем не похожим на ее дневной голос. Разбуженный стонами, Коля лежал в темноте, боясь шевельнуться, и слушал. Он не знал, спит она или не спит, и не решался ее разбудить, потому что она была бы недовольна, если бы узнала, что он слышал, как она стонет.
После смерти папы в ее отношениях с Колей произошла перемена. Прежде она часто кричала на него, когда он плохо себя вел. Особенно сердилась она, если он рвал одежду, потому что новой одежды достать ему не могла. Но спустя недели три после папиной смерти он, вместо того чтобы войти в сад через калитку, влез на забор, а потом, прыгнув, зацепился за кол и разорвал штаны сверху донизу. И мама, к его ужасу, не сказала ему ни слова. Она зашила штаны, не побранив его. После этого он дня три ходил только по самой середине улиц, боясь, как бы за что-нибудь не зацепиться.
Он тоже переменился и больше не корчил недовольного лица, когда мама посылала его в огород или за водой. Он теперь сам следил за тем, есть ли дома вода, и выхватывал у мамы из рук карточки, когда она собиралась идти за хлебом. Она теперь гораздо реже, чем раньше, просила его помочь ей, но у него образовалась привычка заглядывать ей в лицо, чтобы угадать, не может ли он чем-нибудь помочь. Он очень вытянулся за последние месяцы, и вдруг оказалось, что она ниже его ростом, и он стал понимать, что она маленькая и слабая. Иногда, как бы нечаянно, он стал называть ее Марфинькой. Так называл ее папа. Так и он сам, подражая папе, называл ее, когда был совсем мал. Потом он привык называть ее мамой и называл Марфинькой только про себя, в мыслях. Теперь, если не было посторонних, он снова вслух называл ее Марфинькой, и она на это не сердилась.
О папе он не говорил не только с мамой — ни с кем. В Челябинске он учился в школе, в пятом классе, и у него было много товарищей, но о папе он не рассказывал ни одному из них. Не любил он там ни с кем говорить и о том, как он хочет домой, в родной город.
С ним училось немало мальчиков из Москвы и Ленинграда, и все они очень гордились своими знаменитыми городами и очень много говорили о том, как они вернутся туда. Город, в котором родился Коля, был не велик и не знаменит, и там, на Урале, многие даже не знали, где он находится и на какой реке стоит. Но Коля любил свой город. Не за красоту, не за славу, а за то, что все в нем было связано с папой.
Вспоминая улицы, дворы, набережные родного города, птиц, деревья, зиму и лето, Коля сразу вспоминал папу. Под ивой во дворе папа сидел на стуле и читал книгу, а Коля у его длинных ног строил крепость из песка и камешков. На реку, на шершавые горячие мостки, они вдвоем ходили удить рыбу. Папа ставил Колю на каменную ограду старого кладбища, и Коля, гордый, бежал по ней, держась за поднятую папину руку. А когда Коля поступил в школу, они ходили туда с папой вместе: Коля — учиться, папа — на работу. С каким удовольствием шагал Коля по тротуару улицы Ленина рядом с папой, таким высоким, важным, и разговаривал с ним о разных умных вещах — о людях каменного века, о мамонтах, о том, что на луне нет воздуха! А как он гордился в школе, что этот высокий человек с подстриженной светлой бородкой, заведующий учебной частью, которого слушаются не только ученики, но и учителя, о котором почтительно говорят: «Сам Николай Николаевич!» — его папа!
Когда немцы подходили к городу, Коля и мама уехали, а папа остался.
Коле тогда сказали, что он выедет вслед за ними через несколько дней, и Коля сначала поверил этому. Но мама, конечно, все знала, и Коля тоже скоро догадался — видел, что мама не ждет.
Папа остался в городе с партизанами, и два с лишним года не слыхали они о нем ничего, а потом пришло извещение о его гибели.
Коля вышел на крыльцо. Уже совсем стемнело. Дул теплый ветер, и огромная ива шелестела над его головой своей тяжелой, незримой во мраке листвою — словно озеро шумело вверху. И Коля внезапно вспомнил этот шум: ива вот так же шумела под ветром и тогда, до войны. Она уцелела, старая ива, а город, лежащий кругом во тьме, разрушен. Папа был здесь, в городе, когда сюда входили немцы, он бродил при немцах по этим улицам, он видел все, чего не видел Коля. Они охотились за ним, они травили его. Где он прятался? Где спал, где ел? Он жил странной, удивительной жизнью, которую нельзя себе даже представить. Ему было холодно, голодно, больно. Он ничего не знал о Коле и маме, но он думал о них. Что он думал? Он был здесь, когда наши прорвали фронт далеко на востоке и уже двигались к городу. Как он, наверно, ждал! Он, может быть, был жив еще даже тогда, когда немцы перед уходом взрывали и жгли дома.
И вот немцы выгнаны, город свободен, мама и Коля вернулись домой, а его нет и никогда не будет…
Он, конечно, умер как герой — Коля ни одного мгновенья не сомневался в этом. Он, конечно, совершил какой-то подвиг, спасая от гибели тысячи людей, расчищая нашей армии путь к победе. Но какой подвиг? Этого Коля не знал. Если бы только знать, что он делал, что думал, как погиб! Чтобы он жил хотя бы только в уме, только в памяти, чтобы можно было, оставшись наедине, поговорить о нем.
Далекие гудки паровозов звучали в темноте печально и звонко.
Постояв на крыльце, Коля вдруг озяб — не оттого, что было холодно, а оттого, что он очень устал за день. Он вернулся в комнату, разделся и лег на сенничке, который мама расстелила для него на полу возле кушетки. Огонек на коптилке мигал, и белочки на коврике «вери-мери», казалось, двигались, как живые.