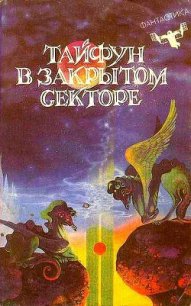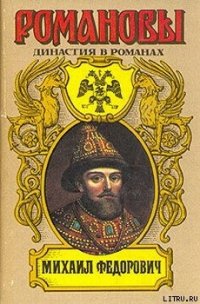Одолень-трава - Сахаров Альберт Федорович (читать хорошую книгу полностью TXT) 📗
В горнице на зеркале и на окнах висели вышитые мамой полотенца с алыми весёлыми петухами, с хитрыми, непохожими друг на друга узорами. А ложки и чашки, расписанные по янтарно-жёлтому фону чёрным и кирпичным цветом, — когда их выносили на стол перед обедом, в самый хмурый, непогожий день от них исходило чистое доброе сиянье. Да мало ли было в доме вещей, полезных и красивых!
И чувствовал Гаврюшка, как от всего этого да от деревенского светлого приволья: от чистых прохладных рек и озер, медовых цветущих лугов, от древних боров, зелёным кольцом охвативших деревеньку, — вселяется в него неукротимая сила.
Это она заставляла его, прячась от всех, лезть за печь или на чердак и с упоеньем оставлять на гладко оструганных брёвнах и оштукатуренных стенах смешные рисунки. Словно беззаботные воробышки, вылетали они из-под его уголька, карандаша или гвоздя. Да, да, даже гвоздя!
Было делов из-за этого злополучного гвоздя, когда Гаврюша на гладко выбеленной стенке печки-голландки, что стояла в углу горницы, процарапав слой обмазки до красных кирпичей, нарисовал своего любимца — пса Сокола: ушки торчком, хвост калачиком. Тут же сами собой появились и Красуля с телёнком, вслед за ними потопали овечки и куры во главе с петухом-забиякой. Замыкал всё это шествие рыжий воришка — кот Василий.
Гаврюшка понял, что натворил, когда услышал за спиной бабушкины оханья и аханья:
— Ох те мне! Ох те мне! Ах ты, самосуд своеносой [7]!
Рядом с бабушкой гости — молодожёны дядя Евлампий с тётушкой Авдотьей: держатся за руки, хохочут, заливаются.
— Что ведь надумал — печку колупать, — чуть не плачет бабушка. — То-то смотрю, утянулся внучек, не слыхать, не видать. Ну, погоди у меня! Где это дедков ремень?!
Не впервой Гаврюшке улепётывать и прятаться от греха подальше — в старый ларь [8] на чердаке, в котором на путинах [9] держали сухари и муку. Ларь этот был похож на маленькую крепость, он был самым уединённым, самым надёжным местом в доме. Взрослые если и догадывались, то не подавали вида, что знают об этом его укромном местечке: взрослые уважали тайны детей.
В этот же ларь, к своему стыду, Гаврюшка убежал даже тогда, когда дядя Евлампий внёс в избу новенький в синей дерматиновой обивке патефон, которого до тех пор Гаврюшка и в глаза не видывал. Едва с крутящейся пластинки рванулись первые звуки, Гаврюшку точно ветром вынесло из избы, и опомнился он только на чердаке, нырнув в свою крепость.
А все оттого, что, когда ему было чуть больше годика, мама взяла его в кино: в деревне впервые показывали звуковой фильм «Мы из Кронштадта». Когда нацеленные на зрителя жерла пушек грянули орудийным залпом, Гаврюшка со страху дал такого рёву, что даже мама насмерть перепугалась. С тех пор он довольно долго побаивался всяких новых незнакомых штучек.
Не успел Гаврюшка убежать от рассерженной бабушки и устроиться в своём ларе поудобнее, как за стенкой послышалось: «Мур-рр, мурр-рррр… — Васенька, мил-сердечный друг, припожаловал. — Свои, Гаврила Афанасьевич, свои, — трёт бока о ларь Котофеевич. — Мур-р, пусти, дрруг, пусти».
Только приоткрыл Гаврюшка крышку, кот прыг в ларь и запел, завыгибал спину: «Мурр, не горюй, друг, не горюй».
— Ох, Васенька, Васенька, как мы теперь, горемычные, на глаза-то бабушке покажемся? Ты ведь тоже, разбойник, утром в кладовке кое-чем полакомился.
«Мурр-рр-р, не горюй, не впервой, отвертимся», — жмурит воровские глазищи кот. Так под песню Васеньки, свернувшись калачиком, и продремал Гаврюшка в ларе до вечера.
Печку бабушке пришлось замазывать глиной и белить заново.
Зато за этой же самой печкой, куда из взрослых никто не мог протиснуться и дотянуться, Гаврюшка мог делать всё, что хотел. Тут было полутемно, загадочно и чуточку страшновато. Бабушка стращала, будто за печкой живёт домовой — ух какой! — и таких неслухов, как он, таскает к себе под печку. Гаврюшка раз расхрабрился, взял да и нарисовал домового. Туловищем домовой был настоящий кот Васька, а растрёпанной головой походил на непутёвого лукавого мужика Сашеньку, по прозвищу Пурта, самого отчаянного в округе охотника-медвежатника и первого на деревне враля и сказочника. Вот какой это был домовой!
Бумага к Гаврюшке редко попадала, но он и без неё чудесно обходился. Иногда он целыми часами простаивал у окошка. Подует на холодное стекло, оно запотеет, покроется матовой плёнкой. Соломинку в руку — рисуй сколько хочешь. Правда, рисунки на стекле страсть какие бегучие: не успеешь оглянуться, а они уже наперегонки побежали капельками на подоконник. Гаврюшка никогда не жалел о них. «Завтра ещё лучше нарисую», — думал он вечером, лёжа в постели, и с этой радостной мыслью засыпал.
И, просыпаясь утром, слушая сквозь сон убаюкивающе тёплое пофыркиванье и потрескиванье огня в печке, приглушённый стук чугунков и крынок, вдыхая сквозь сон вкусные запахи стряпни, он, как котёнок, сладко потягивался; мурлыкал что-то под нос и, не раскрывая век, радостно воображал, что он сегодня будет рисовать или как пойдёт с ребятами на речку удить ельцов или в лес по грибы и по ягоды.
Зимой он любил, когда пошаливает, пощёлкивает на улице огневой морозко, а в окнах стоит серебряный свет необыкновенных узоров. Тогда он мог часами просиживать перед замёрзшими окнами, никак не мог надивиться тому, что Дедко Мороз за ночь натворил. Надоест разглядывать узоры, продует дырку в замёрзшем окне и наблюдает за улицей: «Ку-ку, я вас вижу, а вы меня — нет!»

Глянет бабушка раз, глянет другой:
— Ох те мне, как бы парень-то не свихнулся готикой. Поди, поди, Ганюшка, поди, белеюшко, на улку, побегай с ребятами.
Ему только того и надо. Нырнёт в свою малку, рукавички на руку, и поминай как звали.
Когда набегается с ребятами, накатается всласть с горки, санки в сторону, щепку в руку и забыл обо всём. Да и как тут удержишься, снег-то такой белый, такой чистый — так и просятся на него рисунки.
Был летний воскресный день. В распахнутые окна вливался прогревшийся, пахнущий свежими травами воздух, из-за реки доносился далёкий, но явственно чистый голос кукушки. Стояли те чудные дни, когда уже вовсю властвовало лето, но гнус ещё не вошёл в силу.
Они всей семьёй обедали, на столе дымилась большая миска с ершовой ухой. Хлебали молча, не торопясь, только слышно было, как постукивали ложки о края миски. Гаврюша, подставляя кусок житника под ложку, волочил одного за другим колючих ершей.
— Эй, Ганька, иди к нам! — услыхал он: дружки под окна прибежали, зовут играть.
Гаврюшка высунулся в окно, сделал знак — подождите мол.
Только обернулся — бах! — аж искры из глаз. Тяжела у дедушки ложка, оловянная, круглая, ещё с германского фронта принесена. Проглотил Гаврюшка слёзы — попробуй зареветь, ещё и ремня схлопочешь, дедушка — он такой…
«Плохой, плохой дедко, — глотал он слёзы пополам с ухой, — ни разу больше не пойду с тобой, никуда-никуда… Вот как пойдёшь в лес один без меня, волки тебя там и съедят одного-то, а не то медведь как прыгнет из-за дерева, будешь знать тогда. Я даже не заплачу. Вот!..»
После обеда взрослые прилегли отдохнуть. Наконец-то Гаврюшка вырвался, полетел на улицу к ребятам, — на лугу за амбарами играли в лапту. Да ненадолго.
— Ганька! — позвал его вскорости Санька, старший брат. — Иди, дедо кличет. — И, улыбаясь, щёлкнул Гаврюшку по носу: — Неводить с нами поедешь.
— Неводить?! — захватило дух у Гаврюшки. — Не врёшь?! Честное-расчестное слово?!
Сколько раз он просился, а дедушка всегда в ответ: мал пока, подрасти.
— Дедо, Санька сказал… — подкатился он к деду.
— Вот спадёт жара, после чая и поедем, благословясь.
7
Самосуд своеносой — своевольник.
8
Ларь — большой деревянный ящик, закрывающийся крышкой. Поморы в ларях хранили съестные запасы.
9
Путина — путь, дорога, установившееся с давних времён направление, по которому поморы промышляли морского зверя или рыбу.