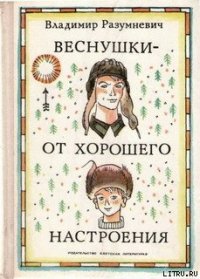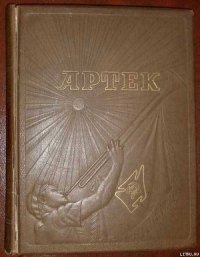Степная радуга (Повесть-быль) - Разумневич Владимир Лукьянович (читать книги полностью .txt) 📗
— Бутаков-то Лаврентий Палыч чего удумал, — удивленно, по-воробьиному вертел маленькой, ушастой головой Леська Курамшин. — Всю ночь напролет в своей баньке хлеб на самогон переводил, чтоб государству, значит, и крошки не оставить. Ну и хитрец же Лаврентий — гуляка беспутный!
— Экую мысль ценную ты, Леська-Ухват, мне подал — хлеб по запаху отыскивать, — засмеялся Кирька Майоров. — Как собака, буду отныне по улицам бегать и вынюхивать. Где самогоном запахло, там, стало быть, и ищи хлебец насущный.
— Самогон — что! Кулак еще и не таким макаром нас вокруг пальца обводит. — Степенный Иван Базыга покрутил указательный палец перед своей курносиной. — Жена моя, когда после пожара домой шла, приметила: три подводы с мешками задворками к Волге подались. Либо в лес, либо на пароход. Кулак свою выгоду знает. Глядишь, так вот и утекут из села зерновые излишки, словно песочек между пальцами.
— Атаковать бы их на дорогах! И тогда все трофеи — наши! — загорелся боевым настроением Ефим Сотников. Его гимнастерка все еще хранила следы вчерашней битвы с огнем — темные выжженные дырки на рукаве.
Когда выехали за село и сгрузили хлеб в амбар, Дуня собрала вокруг себя комбедчиков.
— Надо вам, мужики, — сказала она, — по дорогам ночные дозоры расставить. Всякого, кто с зерном ли, мукой ли будет замечен, останавливать. И пусть сам же и отвозит свой хлеб в наш амбар. Коли на базар задумал ехать, значит, хорошо живет, не из бедных.
— Дозор — дело знакомое. Повоюем! — потирал ладони Ефим Сотников.
Он первым напросился отправиться с тремя комбедчиками к старому осокорю на Ерике, где проходила дорога на Волгу. Группе Ивана Базыги было поручено сторожить тракт, ведущий в Балаково.
Домой Дуняша возвращалась в сумерках. Шла, спотыкаясь на каждом шагу, — от усталости, от дум назойливых, беспокойных. Сердце щемило больно, и тело словно обручем охватывало. Держась за плетень, кое-как обошла поляковский огород, побрела по улице Репьевке. Дом недалеко, но смогла лишь до колодца дойти. Дальше невмоготу стало. Ноги подвернулись, перед глазами лохматые чертики замельтешили, закружились. Присела на траву возле колодезного сруба и содрогнулась от резкого удара в бок изнутри. Шевельнулось там что-то и сжалось будто. Вытянула она ноги, чтобы свободнее дышалось, чтобы не потревожить то родное и кровное, что жило в ней, напоминало толчками о себе, словно просило о помощи.
Дуня зажмурила глаза, плотнее сжала губы и стала ждать, когда пройдет озноб и тошнота, уймется головокружение…
— Дуняша, сестричка милая, да что с тобой? Лица на тебе нет. Как мел бледнехонька…
Дуня увидела над собой большие страдальческие глаза Татьянки — богородицы с косичками, как ласково прозвали ее в семье за тихий нрав, за сердце нежное и заботливое. Сутулясь сильнее обычного, она сидела рядом на корточках и сама была бледна, словно и ее терзала боль.
— Не волнуйся, Татьянка, мне уже полегчало, — тихо отозвалась Дуня. — Скоро совсем пройдет…
— Что случилось-то?
— С каждой бабой может такое случиться…
— Ногу подвернула?
— Вот непонятливая! Да ты вглядись хорошенько…
— О тебе и не подумаешь, — наконец догадалась сестренка и смущенно опустила глаза. — Совсем незаметно… Вконец изведешь ты себя работой. При таком-то положении…
— Ничего, Татьянка, я двужильная. Пересилю как-нибудь. Недолго ждать-то осталось… Ноне притомилась малость. Хлопотный день выдался, да и ночь не спала — Гришутке пальтишко шила… Вот и замучилась головушка. Ты уж, сестричка, посторонним-то ни слова про то, что со мной стряслось. Ни к чему женскую слабость наружу выставлять. Да и не слабая я вовсе. Вот отдышусь и к детишкам пойду. Заждались, поди…
— Неужто день-деньской одни, без матери?
— В обед забежала ненадолго. Покормила и снова бежать. Дела. Думаю, бед без меня не натворили. У них нянька строгая — Гришутка.
— Он у тебя еще мал для няньки-то! Что ж меня-то не позвала? Маманя сейчас без моей помощи обходится, ей наш Степка-вертун помогает. Могу каждый день к тебе заглядывать. Иначе при твоих-то комбедовских заботах малышня совсем одичает. Как можно! Когда тебя нет, я с ними в избе сидеть буду. Ладно?
— Золотой ты человек, Татьянка. Коли детишки с тобой будут, у меня душа за них ныть перестанет. Как и отблагодарить тебя — не знаю…
— Вот еще! Нашла чего сказать! Ты же, Дуняша, на все общество стараешься. Это мы тебя благодарить должны. Облегчу твою участь, а ты сельскими делами занимайся. Народу от этого польза. И буду я твоему комбеду верная помощница. Как Кирька Майоров. Но только по домашнему хозяйству…
— Ну вот, от твоих слов как-то сразу и боль утихла, и сердце повеселело. Богородица ты наша с косичками…
— Скажи мне, Архип-то знает про это?
— Про что — про «это»? Про то, что в комбед избрана?
— Да нет, про другое, — снова смутилась Татьянка.
— Ему-то да не знать! В каждом письме про то спрашивает. И очень переживает за меня, внушает заботливо: «Смотри, Дуняшка, будь поосторожнее. Не в одиночку ты по земле ходишь, а вдвоем с сыном. И написать не забудь, когда на него, писклявого, взглянуть можно — приеду…» Скоро увидит. Архип верит, что мальчик у нас будет. Тому, видно, и быть. Под счастливой звездой сынок народится. Пятым войдет он в жизнь, а при новой, вольной власти, можно сказать первый.
— Счастливая ты, — вздохнула сестренка. — Гроза вокруг бушует, а ты не унываешь. А ведь в самом пекле грозовом живешь…
— А что унывать-то? Унынье несчастье усиляет, а веселье печаль развеивает. Да и некогда мне теперь печалиться-то. — Дуня поднялась, отряхнула платье, сказала облегченно: — Кажись, отдышалась. Можно и домой…
Малыши уже спали. Татьянка сказала, что и она останется здесь ночевать. Они разложили постель на полу и легли, укрывшись одним одеялом.
А утром, ни свет ни заря, кто-то отчаянно забарабанил по оконному стеклу и разбудил их. Дуня раздвинула шторки и увидела за окном сияющее лицо Кирьки Майорова. Бороденка тряслась в смехе, соломинки, застрявшие в волосах, как перышки, вздрагивали и сыпались на землю. Морщинки по краям влажно мерцающих глаз приплясывали радостно.
— А я-то думала, стряслось что, — сказала Дуня. — Отчего такой веселый?
— Новость у меня смешная такая. С ней, стало быть, и пожаловал. Зайтить-то в избу можно?
— Заходи. Только дай нам с Татьянкой приодеться…
— Могу погодить, хотя и не терпится. Уж больно потешную новость разнюхал…
Прежде чем войти в комнату, Кирька пошаркал лаптями по коврику за порогом, смахнул с бороды последние соринки и кашлем предупредил, что идет, мол.
— Выкладывай, что за новость? — спросила Дуня. — Веселый ты больно.
— Еще бы. Чудо-юдо, скажу тебе, приключилось! Потеха! — хихикнул Кирька. — Хрюшки взялись, стало быть, комбеду пособлять?
— Какие хрюшки? Сказывай толком.
— Вот я и говорю — свиньи, стало быть, у нас заместо разведчиков. Бегают по селу и, точно собаки, землю пятачками вынюхивают. В пользу комбеда стараются.
— Стоило ли из-за каких-то свиней будить спозаранку?
— Да ты послухай. Не перебивай, стало быть. Я тебе, Дуняшка, забавную историю по порядку изложу. С чего все началось-то?
Бессонница на меня ночью напала. Верчусь с боку на бок, а усыпить себя — ни в какую! Мысли всякие в голове роятся, уснуть мешают. Про хозяина своего бывшего, про Акима Андрияныча, стало быть, мозгую: и как он нас с тобой из дома вытурил, и как двухпудовой гирей стращал, и как я, озлобившись, едва из ружьишка в него не пальнул. Впервой такой храбрости набрался… Аж сердце захолодело от жутких припоминаний. «А ну, думаю, он нас утром, когда раскулачивать к нему заявимся, той увесистой гирью по темени? И не встанешь ведь…» От таких дум разве заснешь? Дрему с меня как рукой сняло. Встал я и вышел на крыльцо. Зорька занимается, прохладным ветерком с Заиргизья обдает. Вобрал ноздрями воздуха побольше — не учуял, чтобы самогонкой воняло. И задумал я, чтобы бессонницу свою с пользой употребить, по кулацким задворьям прогуляться, нет ли самокурного дымка над банями? Вышел, стало быть, к речному откосу. Бань там, что стрижиных гнезд в моем овражке. Но все, гляжу, бездымные стоят. Хотел было назад вертаться, успокоенный… Только вижу — возле кособокой баньки, что за вечеринским двором в иргизный откос врезалась, какое-то шевеление, лебеда будто колышется. С чего бы это? Банька, сама знаешь, лет десять как не топится, разрушилась вся, травой обросла, ее и не видно. На цыпочках, стало быть, подкрадываюсь ближе. И какая картина взору открывается? Две чумазых, неведомо откеля заблудших в эдакую рань чушки мешок в кустах терзают, похрюкивают аппетитно. А из мешка в лебеду пшеница, зернышко к зернышку, сыплется. Взял я холудину и огрел хрюшек по жирным спинам. А они ни с места. Дорвались до зерна, забодай их коза, и ухом не повели — уходить не желают. Пятачки в мешок суют и чавкают. Мешок-то наполовину уже пуст, рассыпанная пшеница желтой тропинкой к бане тянется. А там, под дверью, черная дыра, аккурат со свиное брюхо. Хрюшки, стало быть, подкоп сделали. Содрал я засов с двери. Вхожу в предбанник. Тьма-тьмущая. Оробело руками пошарил. Мешок нащупал — тугой. Зерном, стало быть, набит. За ним — второй, третий… Я так и подскочил, обрадованный, макушкой о притолоку туркнулся. Подумать только — мешкам в бане счету нет! Вровень потолка навалено. Вечерин, значит, свой хлебец, как только мы распрощались, в баню запрятал. Приготовился, стало быть, нас ноне в своем доме с распростертыми объятиями принять: шарьте, мол, по амбарам да кладовым, что отыщется — все ваше! Ну и шельмец, забодай его коза. Свет таких не видывал! А свиньи-то, а? Унюхали, милые, где кулацким хлебом пахнет. И мне дорогу указали. Я им, каюсь, спасибо сказать не успел. Быстренько замкнул засов на двери и мимо свинушек к тебе затрусил. Баню спешно опоражнивать надо, покуда хозяин не усек нашу находку. Кровопролитие может возникнуть. Я пока за ружьишком сбегаю, а ты комбедовцев оповести. Подвод пять понадобится, никак не меньше… Ну, я побежал. Потом встренемся, хрюшек в пятачки поцелуем. Заслужили!