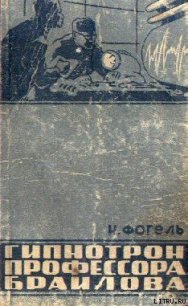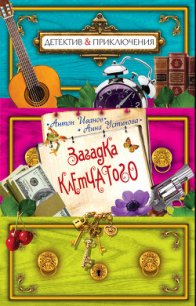Капитан флагмана - Фогель Наум Давидович (книги полностью .TXT) 📗
На вокзале уже никого не было. И поездов не ожидалось. Я пошла вдоль насыпи, туда, куда шли люди. Когда вместе с людьми, твоя беда кажется не такой уж тяжкой. Заночевали на каком-то хуторе. Незнакомый мужчина, молчаливый, с палкой в руке, снял с мертвого шинель и дал мне.
– Одевайся, – сказал. – Иначе околеешь с холоду.
Я взяла и даже не поблагодарила. Верно, у меня тогда был страшный вид, потому что он некоторое время шел рядом, потом спросил:
– Что с тобой?
Я рассказала. Он вздохнул:
– Погубить сейчас – очень просто. Очень даже просто сейчас человека погубить – и солдата, и женщину, и ребенка.
Я потеряла его во время очередного налета. Немцы сначала сбрасывали на нас бомбы, стали расстреливать из пулеметов. Я уже знала, что делать в таких случаях: надо лечь и притвориться мертвой. Я так и сделала. Потом опять пошла. И вот в канаве, у обочины дороги я увидела их. Женщину и ребенка. Она лежала на спине. Левая рука – на груди. Правая откинута. Глаза открыты. На лице – выражение какой-то детской беспомощности и удивления. Ребенок копошился рядом, в грязи. Он совершенно обессилел и даже плакать не мог. Это была девочка, примерно такого возраста, как моя Оксанка. Я подобрала ее. Сняла с мертвой платок, завернула. Я сразу же решила, что возьму ее насовсем. Я ничего не знала о ней. Может быть, если бы поискала, я нашла бы какие-нибудь документы. Но у меня и в мыслях не было обыскивать мертвую. А может быть, я не хотела ничего знать об этой девочке. Она нужна была мне такая – ничейная: без имени и фамилии. Я назвала ее Оксанкой. Подобрала и ушла в степь. Шла и шла, пока не наткнулась на жилье. Теперь я вовсе не думала о немцах, о бомбежках, о том, чтобы уйти как можно подальше. Мне нужно было спасать ребенка. У девочки появилась температура, и я думала об одном: как мне обсушить ее и накормить. Вот я и осталась в том селе, у одной доброй женщины.
Когда ребенок окреп, решила пробираться домой: все равно и там и тут – немцы. При таких условиях дома – я так считала – мне с ребенком будет легче.
…По тем временам нелегкое это было дело – возвратиться домой из такой дали. Но я добралась. Меня тут же вызвали в комендатуру, предложили открыть школу в Заречной слободе.
В сорок втором, когда начались диверсии, немцы взяли тридцать заложников – самых почетных людей города. В число их попали отец и мать Тараса. Галинку я тогда отправила к матери, в Заозерное. Вскоре на воздух взлетела самоходная баржа с оборудованием судостроительного, и всех заложников расстреляли.
Оксанка погибла уже в сорок четвертом, ранней весной. Понимаете, наши были уже совсем близко. Немцы и их приспешники лютовали, а тут кто-то из ребят нашей школы на портрете Гитлера написал черной краской короткое слово из тех, какие обычно хулиганы пишут на заборах. Как назло, рано утром в нашу школу пришел полицай. Он часто наведывался. Началась экзекуция. Он запер дверь, выстроил детей в длинном коридоре и стал допрашивать. Выведать ничего не удалось ни угрозами, ни посулами. Тогда полицай стал орудовать нагайкой. Я бросилась к двери, открыла и крикнула детям, чтобы они бежали. Разъяренный полицай набросился на меня. Оксанка – она стояла, забившись в угол, – метнулась ко мне. Я схватила ее, прижала к себе, чтобы прикрыть от ударов. Не помню, что было потом: потеряла сознание. Когда пришла в себя, полицая уже не было. Оксанка, вконец изуродованная, лежала рядом. Около нее хлопотала старушка уборщица. Левый глаз у ребенка вытек.
Спасти девочку не удалось: началось гнойное воспаление глазницы, а потом присоединился менингит.
Я уехала в Заозерное, к матери. Помню ли я фамилию полицая? Никогда не забуду! Крысюк – его фамилия.
В город вернулись, когда пришли наши. Дом сохранился. Только разграбили все. Даже полы сорвали. Подоконники вывернули. Но самое главное – сад: все деревья срубили. Тарас вернулся в том же сорок четвертом. Осенью. Больше года по госпиталям провалялся. Он сразу же включился в работу по восстановлению судостроительного. Уходил затемно, возвращался поздно ночью. Случалось, и по нескольку дней подряд не уходил с завода. И все же весной выкроил время, чтобы насадить новый сад. Особенно хороша была одна яблонька. Удивительная яблоня: крона ее походила на зеленое пламя огромной свечи. И цвела она не как все. И плоды стала давать особенные: крупные, хрусткие, ароматные. Никто не знал, как называется этот сорт. Тарас Игнатьевич назвал эту яблоньку в память погибшей дочери – «оксанкой».
На этом и кончался рассказ. Запомнилась короткая приписка: «Разузнать все о Крысюке». Потом ей стало известно, что Сергею удалось много разведать об этом полицае. И еще она вспомнила, как Галина рассказала, что этой весной «оксанка» цвела особенно буйно. Валентина Лукинична погрустила, что не видела и не увидит этого цвета.
…Через открытую форточку доносится в палату неумолчный птичий гомон и шорох листвы. И в детстве, и потом уже, когда она встретила Бунчужного и уехала с ним в город, по утрам ее всегда будили такие же звуки. Они приносили ей радость и чувство удовлетворенного спокойствия.
Она решила полежать немного, ни о чем не думая, только прислушиваясь к звукам, долетающим со двора. Но притихший было зверь опять зашевелился. Вот сейчас, еще немного – и снова начнется то, что всегда доводит ее до изнеможения.
Она протянула руку и нажала кнопку электрического звонка. Это нужно сделать как можно раньше, потому что если упустить время, не хватит сил, чтобы нажать кнопку.
19
После обеда, когда Таня ушла, Багрий вынул из шкафа свой черный костюм с «иконостасом». Прошелся по пиджаку щеткой. Ткань свежа, а медали потускнели. Надо почистить, потереть зубным порошком, чтобы горели, как тогда, когда впервые надел все сразу, в самый первый, взахлеб радостный День Победы, в сорок пятом. Как же он был еще молод тогда!
Он отвинтил ордена, отстегнул медали, разложил все на газете и принялся за работу.
С каждой из этих наград было связано много воспоминаний. Вот, например, орден Красной Звезды. Получил его Багрий еще в начале войны, осенью сорок первого, за то, что вытащил из-под носа у немцев не только раненых своего медсанбата, но и полевого госпиталя, где начальником был Остап Филиппович. Потом его не раз еще награждали и медалями и орденами. Орден боевого Красного Знамени был особенно дорог ему. Командир медсанбата, правда, шутил, что капитан медицинской службы доктор Багрий «схлопотал» этот завидный орден буквально за несколько минут, между двумя перевязками.
Случилось это под Курском. Справа и слева гремело и гремело. А на их участке всего несколько незначительных стычек. Наконец загрохотало и у них. Самолеты шли волна за волной. И тогда Багрий понял, как разумно поступило командование, решив развернуть медсанбат не в деревне, что раскинулась у реки, а в трех километрах восточнее, в лесной чаще: не прошло и часа, как от села ничего не осталось. Около десяти доложили, что в батальоне, который удерживал высоту перед лесом, много раненых. Командир направил туда Багрия. Над лесом стоял легкий туман. Такой туман с утра всегда к жаркой погоде.
Высота, которую оборонял батальон, имела особое значение. Захвати ее немцы – и все, что справа и слева от нее, было бы разгромлено. Это несведущему человеку фронт представляется непрерывной полосой, на которой все «грохочет». На самом же деле, как правило, бои идут лишь в узловых точках. И когда сопротивление в этих точках бывает сломлено – все летит к черту. И высота, которую занимал батальон, была такой узловой точкой.
Немцы залегли в глубокой балке, густо поросшей кустарником. Когда начинался обстрел, все кругом застилало дымом и пылью. Потом, когда стрельба затихла, наступила такая тишина, что слышно было, как в небе звенел жаворонок. «Интересно, – думал Багрий, – пел ли он во время обстрела? Наверное, не пел».
Багрий перевязал раненых, что скопились на восточном склоне холма. У одного в левом боку, где зияла огромная рана, хлюпало, хрипело и зловеще пенилось. Багрий затампонировал рану. У другого – перелом бедра. Вместо шины Андрей Григорьевич прибинтовал к ноге кусок разбитой оглобли. Ему сказали о тяжело раненном комбате, что остался в окопе на западном склоне. Багрий пополз туда. Раненый сидел, привалившись к глиняной, не успевшей еще обсохнуть стене, весь измазанный грязью, пылью и чем-то черным. Правая нога была туго перетянута в бедре брючным ремнем. Глаза полузакрыты, лицо – серовато-бледное, землистое, какое бывает только при тяжелом ранении с большой потерей крови. Второй, еще молодой совсем, с красным веснушчатым лицом и выбившимися из-под каски рыжими волосами, стоял у пулемета.