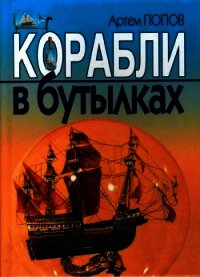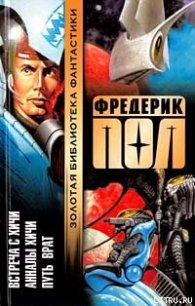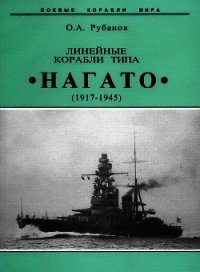Встречаются во мраке корабли - Хондзыньская Зофья (читать книги без регистрации TXT) 📗
— Встречаются во мраке корабли.
— Что такое?
— Павел сказал мне это, — она впервые помянула здесь его имя, — когда пытался навязать мне дружбу.
— Не люблю твоего насмешливого тона.
— Это невольно. Но я сейчас не о том. Рассказ этот, вернее, стихотворение — и вправду красивое. Корабли на море ночью, во мраке, не видят друг друга и, сближаясь, объясняются голосом сирен: «Слушай, ты не одинок…» — С каждым словом голос Эрики все больше теплел. — Понимаешь, Ядвига, ты услышала голос моей сирены, мой крик о помощи и ответила мне… — Она вдруг глубоко вздохнула, словно готовясь нырнуть. — Теперь я расскажу тебе все.
«Все» — смешное, однако, слово», — подумала Ядвига; ее необычайно тронула эта женщина-ребенок, неожиданно принесшая ей в дар «все».
— То есть… мое… «все»…
«Забавно, она угадывает каждую мысль», — подумала Ядвига, еще более тронутая.
— Я уже хотела, очень хотела рассказать тебе это, — продолжала Эрика, — но мне нужен был какой-то знак от тебя… Ну, и ты дала мне его…
Прорвалась плотина, за которой годами копились и гнили невысказанные слова. Эрика говорила и говорила, прерываясь для того лишь, чтоб закурить новую сигарету. В какой-то момент она заметила, что говорит не о себе, как хотела, а о матери, о том, какую длинную тень бросила она на всю ее, Эрикину, жизнь, о том, как заслонила ей свет, детство, о зыбучей тишине, которая засыпала ее, как песок в Сахаре, и что потом это уже не изменилось, вросло в нее, парализовало, сталкивая все глубже и глубже в пропасть одиночества.
— Она не любила меня, — крикнула Эрика почти в отчаянии, — вот я и была к ней жестокой! — И вдруг замолкла.
То, о чем она знала уже много лет, теперь — высказанное, выкрикнутое — зазвучало как-то иначе, как завершение трагедии, после которой должен был начаться новый абзац; точка — и с красной строки.
Сделалось тихо, она закрыла лицо руками, а когда отняла их, увидела, как что-то мелькает у нее перед глазами: серебристые, шевелившиеся в тишине спицы Ядвиги.
— Вот видишь, ты была жестокой, — сказала Ядвига. Эрика доверчиво глянула ей в лицо. — А ведь ты вовсе этого не хотела, ведь этого нельзя хотеть. Люди по природе своей, вероятно, добры, мечта о доброте — естественный человеческий инстинкт. Но в жизни — по разным причинам — мечта эта воплощается далеко не всегда. Однако же величайшая ошибка — безоговорочное осуждение других. Ты осудила мать, и это погубило вас. А что, если она была еще несчастнее тебя? Ты об этом не подумала? Тебе не пришло в голову, что не только ты хотела найти в ней опору, но и она искала опору в тебе? И тоже не находила.
— Во мне? Я была тогда ребенком. Как можно искать опоры в ребенке, который сам еще не обрел никакого равновесия?
— Можно ждать от него ласки, нежности. Это иной раз важнее любой опоры и поддержки.
— Что же мне было делать? Не могла же я насильно ее полюбить? Ничего бы не вышло.
— Не могла и не можешь. Сегодня твоей матери причитается от тебя одно: она должна знать, где ты и что с тобой, знать, что ты решила изменить свою жизнь. А потом уж как получится. Если хочешь, я сама напишу ей, что ты живешь у меня и готовишься к экзаменам, что ты решила поступать в художественную школу. Она ответит, а там уж увидим, как быть дальше.
— Ядвига… это правда… Ты согласна написать ей?
— Напишу. Через пару недель, когда буду уверена, что ты в самом деле начала готовиться к экзаменам.
— А ты не считаешь…
— Считаю. Но инициатива должна была исходить от тебя, и я рада, что так оно и вышло.
— Но я даже не знаю, как начать.
— Ты в самом деле думаешь, что это хоть что-нибудь значит? Напишешь без обращения. Даже «мама» — вовсе не обязательно. Напиши: «Я поняла, что должна успокоить тебя…» И еще пару подробностей из своей жизни.
— И ты думаешь, я смогу ее успокоить?
— Важно не то, что я думаю, а то, что думаешь ты.
— Не знаю, сдам ли я экзамены, но готовиться к ним буду — это точно.
Она подняла с пола костыль.
— Что это? Куда ты собралась?
— За бумагой. Если я отложу это, то никогда в жизни уже не сделаю. А ведь пора, пожалуй, начать жить за свой счет.
— Сиди спокойно. Я принесу тебе. Напишешь через час. Уж если столько месяцев не писала…
— Месяцев? Я никогда в жизни не писала ей.
Ядвига виду не подала, какой болью отозвались в ней эти слова. Ровным, спокойным голосом она сказала:
— Значит, и первое письмо подождет еще часок, а мы тем временем закончим наш разговор… Ты не признала своей вины, но сказала, что была жестокой, значит, чувство вины где-то в подтексте есть. Но ведь ты же не хотела этого? Правда? Так или иначе, ты стала невыносимой, и при этом, так сказать, «бескорыстно». Ну скажи, была ли тебе хоть какая-то польза от этого?
— Я была ужасно несчастна.
— Вот видишь. А теперь ты изменилась, потому что, по твоим словам, тебе стало хорошо. Какая в том моя заслуга? Никакой. Мне ничего это не стоило. Я не мучилась, ничего не делала вопреки себе, ни к чему себя не вынуждала. Ты была мне так же необходима, как я тебе. С первой минуты стала близка мне, и все тут. Все произошло как бы само собой, без нашего участия. Другое дело — Павел. Его заслуга неизмеримо больше.
— Не будем говорить о нем. Не хочу. Ну ей богу, во мне уже нет для него места.
— Опять осуждаешь? А может, опять неправа? Откуда тебе знать, где проходит граница между тем, чего он хотел для тебя, и тем, чего достиг?
— Он обманул меня и выставил на посмешище, — сказала Эрика, — такое не прощается. Я была для него не более чем трудным случаем, который он использовал для своих научных наблюдений. Ну, может, еще чуточку жалел меня, думая при этом — вот, мол, какой я хороший. И все.
— Так вот, представь себе, что ты ошибаешься. Нет, нет, не прерывай, я терпеливо тебя слушала, теперь позволь уж мне закончить. Во-первых, голый факт: я видела Павла. Он очень несчастен. До откровения у нас не дошло, но можешь довериться моему инстинкту: отношение Павла к тебе на сегодня ох как далеко от отношения наблюдателя к трудному случаю. Впрочем, это дело не мое. Во-вторых, задумайся на минутку, как выглядит «история вашей истории». Павел поехал в чужой дом, увидел чужую, на редкость антипатичную девочку, которую судьба, а может, несчастный характер, безотчетная агрессивность обрекли, как злую собаку, на людскую ненависть. Он, не задумываясь, решил тебе помочь. Заметки о тебе были не более чем предлогом, с их помощью он надеялся лучше узнать и понять тебя. Он был упорен в своем желании оказать тебе помощь, хотя ты с первой же минуты только и делала, что мешала ему, отбивала всякую охоту. Чтобы помочь тебе, он решился пожертвовать многим; натянутыми стали его отношения с матерью, он старался, думал, комбинировал — словом, осложнил себе жизнь. Ты отвечала ему черной неблагодарностью. Подумай, ведь я же ничем не жертвовала. («Зато я полюбила тебя, — радостно подумала Эрика. — Ты первый человек на свете, которого я полюбила».) Попросту обрадовалась, что кто-то оживит мой опустевший дом. И вот — результат: удача выпала не Павлу, а мне. И только поэтому я в твоих глазах — хорошая, а он — плохой. Это как если бы оценивать врача по результатам операции. Никто обычно не принимает во внимание, что у одного врача — пациент, которого можно спасти, а у другого — обреченный на смерть. У одного больного крепкий организм, а у другого — слабый. Одна операция была сделана вовремя, а другая — слишком поздно.
— Мне она сделана в последнюю минуту, — тихо сказала Эрика.
— Так вот, это обычно не принимают во внимание («Не услышала, что я сказала? Не захотела услышать?») и судят только по результатам. Пациент спасен. Пациент умер.
— Между врачами тоже бывает разница, — успела вставить Эрика.
— Если бы Павел не принял тогда в тебе участия, — не дала сбить себя Ядвига, — мы бы с тобой не сидели сегодня тут, рядом. Это, бесспорно, его рук дело. А может, именно то, что мы сидим рядом, и предрешило спасение пациента?