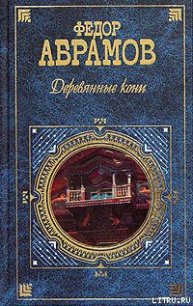Деревянные кони - Лиханов Альберт Анатольевич (читать книги бесплатно .txt) 📗
– Но написать-то он должен, – говорила, волнуясь, мама, и тут мне нечего было сказать.
Я ждал от отца письма так же нетерпеливо, как мама и бабушка.
Часто по вечерам мы усаживались все втроем на диван, слушали тихую музыку, которую передавали по радио вместо тревожных сводок, и мечтали, как заживем, когда вернется отец.
– Костюм сразу ему справим, – говорила мама и вздыхала, вспоминая, как нас обокрали.
– Комнату разгородим, – говорила бабушка.
«Комнату разгородим»! Эти слова меня неприятно кололи, и я чувствовал вину.
Я вспоминал, как раз в неделю, по воскресеньям, приезжала из деревни Васькина мать, тетя Нюра, и привозила молоко.
Тетя Нюра кружила бутыль, чтобы молоко скорее вытекло, я глотал слюнки, глядя, как в опустошающейся бутыли медленно ползут по стенкам густые остатки молока, и корил себя за слабоволие. Ведь это молоко было платой за Васькино у нас житье, значит, и за Васькину дружбу. Тетя Нюра уходила, я набрасывался на молоко, заедая его черным хлебом и урча от удовольствия, и мысль о том, что это молоко – плата за Ваську, сама собой исчезала, будто растворялась в выпитом молоке.
Однажды я вернулся из школы поздно вечером – нас посылали в овощехранилище перебирать картошку и свеклу. В хранилище было не холодно, но руки у меня совсем окоченели и покрылись тонким, но прочным слоем земли.
Я ввалился домой, бросил в изнеможении сумку с учебниками и прислонился к косяку.
Мама и бабушка смотрели на меня с жалостью – они всегда жалели меня, если наш класс ходил копать картошку, перебирать овощи или еще на какую-нибудь работу, словно я один уставал, – но в их глазах на этот раз было еще что-то, кроме жалости. Какое-то лукавство, что ли.
– Мой руки, – сказала мама, поднимая мой портфель, – там, на столе, тебе кое-что есть.
Я подумал, они оставили мне чего-нибудь вкусненького, но есть не хотелось, в горле пересохло, я еще не мог отойти от долгой работы внаклонку и вяло кивнул головой, откручивая кран.
Вода стекала с моих локтей грязными ручьями, хотелось спать, и я представлял, как рухну сейчас на свой скрипящий диван.
Лениво утершись, я подошел к столу и увидел яркую картинку: на еловой лапе вперемежку с цветными шарами раскачивались гномики. Я перевернул картинку и узнал знакомый почерк: открытка была от отца.
Я засмеялся, усталость исчезла, я подпрыгнул, как маленький. Ничего особенного отец не писал, он просто поздравлял нас с наступающим Новым годом и обещал, что уж в новом-то году он непременно приедет домой.
– Ну видите! – крикнул я, оборачиваясь к маме и бабушке. – Я же говорил! Все в порядке! – И заорал: – Васька! Иди к нам!
Мама с бабушкой стали собираться в магазин, ушли, а Васьки все не было.
Я крикнул ему:
– Ну чего ты, иди!
Васька пришел какой-то понурый, тихий, грустный. Но я не заметил этого. Я вертел в руках лакированную открытку с гномиками и вслух читал отцовское письмо.
Васька кивал, криво улыбался, потом взял у меня открытку, посмотрел на гномиков и сказал неожиданно зло:
– У, фашисты!
– Кто? – не понял я.
– Вот эти, карлики.
– Ну сказанул! – возмутился я.
Гномики в разноцветных колпачках мне очень нравились. Да что там, они были просто замечательные, ведь их же прислал мне отец.
– Ясное дело, фашисты, – сказал Васька, всматриваясь в меня. – Да такие картиночки фашисты друг другу посылали!
Я ничего не понимал. Никогда я не видел Ваську таким злым и ожесточенным. Он был всегда добродушным, приветливым, а тут вдруг обозлился на какую-то открытку, на каких-то гномиков.
– Вась! – окликнул я его. – Ты чего?
– Да ничего, – поморщился он, – просто я все фашистское ненавижу. – Он помолчал и прибавил: – Они у меня отца убили.
Я сидел на диване и чувствовал, как краснею, как заливаюсь жаром. Мне было противно, гадко.
Вот уже сколько дружу я с Васькой, сколько исходили мы кварталов по нашему городу, а я ни разу – вот стыд-то! – ни разу не спросил Ваську про его отца.
– Васька, – сказал я, потрясенный его словами, – Васька, а где?
– Под Москвой, – ответил он и тяжело вздохнул.
Отец у Васьки погиб под Москвой – он воевал в лыжных войсках. Васька и тетя Нюра узнали об этом уже под конец войны, потому что вся та лыжная часть погибла, уцелело лишь несколько человек и среди них один дядька из райцентра. Уходил воевать этот дядька вместе с Васькиным отцом, уцелел под Москвой, но чуть не погиб под Берлином и вернулся в сорок пятом полным инвалидом.
Мы с Васькой сидели одни в натопленной тихой комнате, такой тихой, что было слышно, как за стенкой у тети Симы тикают ходики, и Васька рассказывал мне, как они с матерью узнали, что в райцентр вернулся тот инвалид, и сразу собрались, не взяли даже хлеба с собой, и пятнадцать верст до этого райцентра все время почти бежали. Инвалид работал сапожником в артели «Верный путь». Васька и тетя Нюра вошли в маленькую каморку, где он стучал молотком, и тетя Нюра заплакала.
– Она не об отце заплакала, – сказал мне Васька, – а об этом инвалиде. У него жена, пока он воевал, померла.
Инвалид сидел на табурете, привязанный к нему широким брезентовым ремнем, чтобы не упасть. Ног у него не было. Только подшитые выше колен стеганые зеленые штаны.
Обратно они шли молча, по разным сторонам проселка, не замечая голода, хотя маковой росинки с утра во рту у них не было. Инвалид сказал, что всех лыжников перемяли танки. У Васькиного отца, как и у других, была только винтовка со штыком и ни одной противотанковой гранаты. Гранаты им еще не успели выдать – прямо с поезда бросили в атаку. И танков никто не ожидал. Они появились откуда-то со стороны.
– Кончу курсы, – сказал Васька глухо, – денег подзаколочу и поеду в Москву отца искать.
– Как же ты его найдешь? – удивился я.
– Найду! – уверенно ответил Васька. – Инвалид говорил, на сто первом километре все было.
Мне снова стало стыдно перед Васькой. Я был счастливее его. Вот и отец у меня живой, всю войну прошел, ранило его, а живой. А у Васьки отца нет. И больше никогда не будет.
Васька встал, прошелся по комнате в залатанных валенках с загнутыми голенищами, подросший и худой – пиджак болтался на нем, словно на палке. Он чиркнул спичкой и закурил.
Я вспомнил, как увидел его в первый раз: курящим и с галстуком. И, глядя на Ваську новым, повзрослевшим взглядом, я подумал, что удивлялся тогда, летом, потому что не знал Ваську.
А теперь вот знаю. И считаю, что курить он имеет полное право.
Я потихоньку спрятал отцовскую открытку с гномиками под скатерть.
С того вечера мы с Васькой часто про отцов говорили. Он про своего, я про своего.
Я показал Ваське значок ГТО на цепочке, рассказал, как отец его мне, совсем маленькому, уходя на войну, подарил. Как потом он в госпитале лежал, как учил меня с высокой горы на лыжах кататься. Как я кисеты шил, а потом своему же отцу подарил.
Васька фронту тоже помогал. Он пуховых кроликов, пока в школе учился, разводил, сам пух из них дергал, а бабка его, отцова мать, вязала из этого пуха подшлемники и варежки с двумя пальцами – для снайперов. Чтобы им не холодно было в снегу лежать и удобно фашистов выцеливать.
– Знаешь, – сказал Васька, – кем бы я стал, если бы на войну меня взяли? Снайпером. Танкисты там или артиллеристы, конечно, тоже этих гадов здорово крошат, но снайпер прямо в лоб фашисту целится. Прямо в лицо!
Васька сжимал кулаки, бледнел, и мне казалось, что вот будь сейчас перед нами немец, Васька бы его руками от лютой ненависти задушил. Не побоялся бы на здоровенного фрица броситься.
Однажды я вытащил альбом с карточками, и мы уселись разглядывать их. Отец был на многих фотографиях – в санатории, под пальмой; в шляпе и с галстуком, облокотясь на какую-то вазу; с мамой и бабушкой и снова один. Васька внимательно вглядывался в моего отца, улыбался вместе со мной, смеялся над фотографией, где отец снят со мной – я сижу у него на плече, совсем маленький, сморщился, вот-вот зареву от страха, что отец посадил меня так высоко.