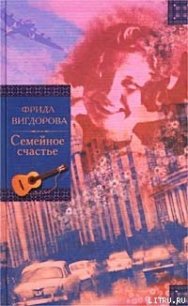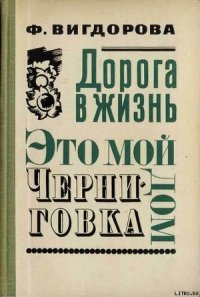Мой класс - Вигдорова Фрида Абрамовна (книги хорошего качества .TXT) 📗
Письмо переходило из рук в руки. Потом Шура вынул из бумажника карточку, на которой были изображены улыбающийся мужчина в тёмном костюме, держащий на коленях толстощёкого глазастого малыша, и молодая женщина в белой блузке с галстуком.
– Значит, заведующая всё-таки послала карточку? – спросил Борис.
– Нет, у Григория Алексеевича сохранилась такая же. Он дал мне её с собой. Вообще-то особой надобности в этом нет: я и так пойму, Григорий ли Алексеевич снят на той фотографии, что хранится в детском доме.
– Знаете что… – нерешительно начал Горюнов. – Вы когда туда поедете?
– Послезавтра.
– Возьмите нас с собой! – воскликнули сразу несколько человек.
– У нас в воскресенье поход на лыжах, – напомнил Ильинский.
– Ну и что же? Возьмём лыжи. Доедем поездом до Болшева, а там на лыжах… Возьмите нас! Пожалуйста! – настойчиво упрашивали ребята.
Шура вопросительно посмотрел на меня.
– Марина Николаевна согласна! – хором закричали, наверно, десятка полтора голосов, прежде чем я успела вымолвить хоть слово.
…Когда мы в Болшеве сошли с поезда, Дима Кирсанов, Кира Глазков, Федя Лукарев и я остались дожидаться «кукушки»: Диме после операции ещё нельзя было ходить на лыжах, у Киры лыж не было, а Федя умудрился сломать свои по дороге и теперь был мрачнее тучи. Остальные вместе с Шурой, расспросив о дороге, двинулись к лесу.
– Я всё думаю: а что, если этот мальчик не настоящий Вова Синицын? – озабоченно сказал Дима.
– Всё равно он настоящий, – резонно возразил Кира.
Но Диму, видимо, занимала какая-то своя мысль. Всю дорогу он молчал и с нетерпением поглядывал в окно – скоро ли доедем?
«Кукушка» быстро доставила нас на станцию. Мы вышли из вагона и, никого не расспрашивая, прямой широкой дорогой пересекли, поле, потом белый и тихий лесок, по пояс утонувший в пухлых сугробах после вчерашнего снегопада. Но вот между стволами стали видны колонны беседки и большая белая дача, обнесённая высокой узорной решёткой. Откуда-то слышались звонкие голоса, смех. Конечно, это и был детский дом.
Мы не пошли к воротам – надо было подождать наших. Побродили немного по лесу, поболтали. Дима по-прежнему был молчалив, а Федя повеселел, забыв про сломанную лыжу; он и Кира не давали скучать ни мне, ни друг другу. Я не очень понимала, какой дорогой двинулись наши и скоро ли будут здесь, и побаивалась, как бы моя тройка не замёрзла. Поэтому мы принялись лепить лыжника. Федя увлёкся и вставил в руку нашего снежного богатыря вторую, уцелевшую лыжу, которую он до сих пор таскал с собою, опираясь на неё, как на посох. Палки нёс Кира. У лыжника были глаза, нос и рот из шишек и даже подобие шлема из еловых веток.
Наконец часа через полтора за деревьями замелькали знакомые фигуры, раскрасневшиеся физиономии и послышались голоса, которые могли принадлежать только Левину и Саше Воробейко. Эти двое не знали полутонов; даже когда они разговаривали со мною с глазу на глаз, я не могла отделаться от ощущения, что они рассчитывают на аудиторию по меньшей мере в полсотни человек.
Наши пятнадцать лыжников шли гуськом, соблюдая дистанцию в два-три метра. Это был внушительный отряд. Впереди шёл Шура; замыкающим, как всегда – Лёша Рябинин. Мы помахали им, и они подкатили к нам – румяные, разгорячённые, весёлые, с блестящими глазами. Лабутин тотчас раскрыл свою аптечку и стал придирчиво осматривать всех по очереди. Вот он уже пытается доказать Гаю, что у него обморожена щека. Мы хохочем: Саша румян, как яблоко.
– У Бориса белые уши! – уверяет Лабутин.
– А тебе что надо: чтоб они у меня были зелёные? – спрашивает Боря.
– Если белые, значит обморожены! Давай я потру варежкой, а потом смажу.
– Мажься сам, пожалуйста!
Лабутину непременно надо пустить в ход своё уменье массажиста и запас вазелина, да вот беда: никто не обморозился!
– Ну, вот что, – говорит Шура. – Всех нас в детдом, наверно, не пустят – разная там инфекция и прочее такое. Поэтому подождите немного за оградой. Я войду, всё выясню и сразу вернусь к вам.
Мы остановились поодаль, а Шура пошёл к калитке. Сквозь решётку мы видели, как он подошёл к крыльцу, позвонил; ему открыли, и дверь снова захлопнулась. Ребят охватила настоящая лихорадка. Я не могу отвлечь их ни расспросами о том, как они дошли сюда, ни рассказами о том, как доехали мы на «кукушке» и как потом лепили лыжника. Им не до того: они ждут.
Наконец дверь снова отворилась, и появился Шура с высокой немолодой женщиной в пальто, накинутом на плечи. Мы внимательно смотрим на обоих, стараясь прочесть ответ на их лицах, но они идут не спеша, разговаривают о чём-то и даже не смотрят в нашу сторону. Румянцев и Воробейко кидаются к воротам, за ними – остальные.
– Александр Иосифович! Ну что? Как? Он или не он?
Шура остановился и поднял обе руки: в каждой было по карточке – два одинаковых снимка, только один сильнее выцвел и пожелтел. И на обоих снимках мы увидели одно и то же: молодую женщину в белой блузке и отца с мальчуганом на коленях.
– Ур-ра! – закричал Гай, и все дружно подхватили.
Взлетели вверх шапки Лабутина, Савенкова, ещё чья-то, и, конечно, поднялся невообразимый шум; впрочем, он быстро сменился сконфуженным молчанием, потому что женщина сказала с лёгким укором: «Здравствуйте, дети». Тут мы сообразили, что на радостях забыли поздороваться, забыли об всём на свете, кроме одного: Вова Синицын оказался действительно тот самый, настоящий и, значит, теперь поедет с Шурой к отцу.
Я извинилась за себя и за мальчиков. Шура представил нам заведующую детским домом Людмилу Ивановну Залесскую.
А к окнам белой дачи изнутри уже прилипли чьи-то лица и ладони, расплющились чьи-то любопытные носы.
– Пойдёмте, – сказала Людмила Ивановна, – я напою вас горячим чаем.
– А как же инфекция? – спросил Лабутин.
Людмила Ивановна внимательно посмотрела на него и на его сумку с красным крестом:
– Ничего не поделаешь, не морозить же вас тут.
– Вот это правильно, – вполголоса, но так, что слышали все, сказал Воробейко. – Пока мы шли, на нас все микробы перемёрзли.
– Я покажу вам Вову, – сказала Людмила Ивановна, введя нас в дом. – Но вы ему пока ничего не говорите, не будоражьте его. Мы с ним позже потолкуем.
Мальчики вытерли лыжи, оставили их в сенях, разделись, сложили на широкой скамье в передней верхнюю одежду и, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь помять или сдвинуть, вошли в просторную, светлую комнату, на дверь которой показала нам Людмила Ивановна.
Посреди комнаты стоял на стуле лобастый белобровый мальчуган лет пяти и самозабвенно кричал:
– Скорей! Стихи придумал! Скорей слушайте! Скорей, а то забуду!
Вокруг него толпились детишки – некоторые были ещё меньше его; самым старшим было лет по девять-десять, не больше. Лобастый открыл рот, как видно собираясь обнародовать своё произведение, но увидел нас, соскочил со стула и кинулся навстречу. Нас тотчас окружили, и в одну минуту мои ребята перемешались с хозяевами.
– Что же ты придумал? – спросила я лобастого малыша.
Он не заставил себя просить и, поднимая белые брови, тараща глаза и забавно округляя рот, продекламировал свои стихи; они, как и их автор (судя по его внешности и интонациям), были в высшей степени жизнерадостны:
А вот ещё:
И ещё:
Ребята – все без исключения: и мои и здешние – громко захлопали поэту, но он, не успев перевести дух, сразу закричал: