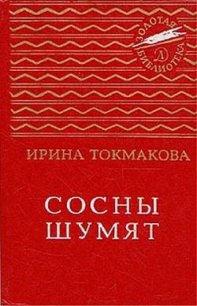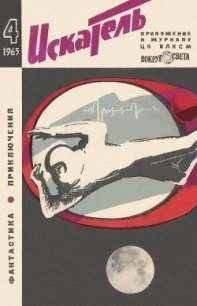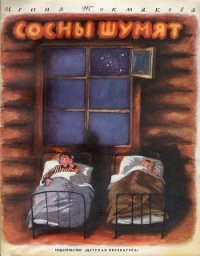Повесть о юнгах. Дальний поход - Саксонов Владимир Исаакович (книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Я пошел к Федору.
— Куда? — Боцманский вопрос застал меня на середине трапа, когда я собрался поднять крышку люка. Хотелось мне сказать Пустотному что-либо порезче, да передумал — зачем? Он все-таки хорошо относится ко мне.
— Федору на берег посмотреть надо?
Хотя я и ответил Пустотному вопросом на вопрос, но в том, как я сказал, вопроса не было. Просто так решил — и все. Я даже не оглянулся и не стал слушать, что ответит боцман. У него оставалось достаточно времени остановить меня.
Выскочив из кубрика, я бегом добрался до рубки, проскочил мимо командира, который не взглянул в мою сторону, спустился по трапу к рубке, распахнул дверь.
— Федор! Земля!
Он не обернулся, только кивнул. Кончик грифеля карандаша, зажатого в его руке, сломался. Федор сердито отбросил его в сторону, взял отточенный и продолжал писать. Я закрыл за собой дверь и стал у комингса.
Закончив прием, Федор протянул мне радиограмму:
— Отнеси командиру.
— Может, ты чайку попьешь? А, Федор? — Я не понимал, как можно отказаться от того, чтобы увидеть свою родную землю, к которой мы шли, пропахав Атлантический океан, Северное море и море Баренца?
Федор стучал на ключе и словно забыл обо мне.
Я вышел. Медленно поднялся на мостик, отдал радиограмму, вернулся в кубрик. Ни на кого не глядя, забрался на койку и стал смотреть в иллюминатор.
Земля, приближаясь, вырастала, становилась словно мысом — особенно высоким в том месте, где был вход в базу, и понижалась по обе стороны от него. Я узнавал, правда, узнавал, эти серые скалы, кое-где в расселинах поросшие лесом.
И вот я увидел одинокую сосну на утесе. Освещенную солнцем медностволую сосну. Нет, не медностволую. Ствол ее сиял, горел будто. Ослепительно. И от него к моим глазам протянулись золотые лучики. Много-много. Они мерцали и переливались.
Захотелось позвать всех, кто был в кубрике, посмотреть на эту сосну. Но мой голос осекся.
Закат был долгий.
Потом сосна погасла…
Вскоре мы вошли в базу.
Тихо так, просто, будто и не из Америки пришли, а так… Крутились целый день на размагничивании и вернулись к пирсу, от которого утром отошли.
Ошвартовались.
Странные нотки уловил я в голосах Гошина, боцмана, командира даже. Необыкновенные бархатные нотки. Они говорили о канатах, о брезенте, о чехлах, а в то же время и не об этих вещах вроде, словно после легкого толчка — прикосновения о причал в нашей родной базе — вещи перестали быть простыми вещами.

Не знаю, как вот сказать, но так было.
Может быть, потому, что смолкли моторы.
Тишина эта казалась неправдоподобной. Давила. Хотелось выковырять ее из ушей. Я ловил себя на том, что вслушиваюсь в молчание. Иногда очень напряженно, как тогда, во время шторма, когда двигатели захлебывались океаном.
Но теперь моторы молчали, потому что сделали свое дело — мы вернулись домой.
Звуки слышались очень отчетливо и громко.
Скрипнул борт о кранцы.
Или это скрипнул брус причальной стенки?
Когда мы ошвартовались, я сразу спустился в кубрик. И боцман и Гошин тоже. Все спустились в кубрик. Ведь увольнения на берег не будет. Какое увольнение на ночь глядя. И словно нам неинтересно было посмотреть на берег.
Очень даже интересно.
Слишком даже хотелось… Так хотелось ступить на свою, на родную на твердую землю.
И почувствовать, как слегка, чуть-чуть кружится голова, и причал уходит из-под ног, и надо идти, немного расставив ноги, чтоб ступать увереннее.
Я лежал на койке, свернувшись калачиком.
В иллюминатор мне был виден обшарпанный деревянный брус у причальной стенки. Такие брусы обязательно намного ниже настила пирса. А с бортов свешивают либо сплетенные из пеньковых канатов, похожие на груши кранцы, либо старые автомобильные покрышки. Это амортизаторы, чтобы борт корабля не царапался о пирс при волнении и не портил покраску. И вот против иллюминатора находился как раз такой брус, изодранный в щепу миллионами прикосновений кораблей, пока стояли они, вцепившись швартовами в родной берег.
Не такой представлял я себе встречу с землей, со своей базой.
Ведь мы дважды океан пересекли, четыре моря, если считать туда и обратно! Какие штормяги выдержали! Подлодку утопили!
А катера? Сколько катеров мы пригнали?
И нас встретили так, будто с размагничивания вернулись.
Оркестр, конечно, лишнее. Война. Такие торжественные встречи ни к чему. Ну, хоть митинг бы устроили. Право!
Мелькает и мелькает у меня перед глазами изодранный в щепу брус, чуть светится в сумерках. Не видно мне ни пирса, ни того, что на нем.
— Юнга! — Это голос боцмана.
Я скатываюсь с полки.
— Есть!
— Спал, что ли? Иллюминатор задрай. Свет пора врубить, чего без света-то сидеть?
Совсем темно в кубрике, все остальные иллюминаторы задраены заслонками. С трудом угадываю, что все сидят за столом — видно, говорили о чем-то. А я ничего не слышал. И чего мне слушать? Все равно не завтра, так послезавтра спишут с катера.
Старательно задраив иллюминатор, я соскочил с рундука и, взглянув, закрыт люк или нет, врубил свет. Лампочка засветилась слабо, меньше чем в полнакала. Но я все-таки прищурился, чтобы глаза привыкли к свету.
— Сосчитал-то точно? — спросил боцман.
— Может, ошибся на два-три, — ответил Гошин. — Сам же видел: новый пирс в ковше сделан. Выходит, не меньше двух десятков катеров они сами сварили. Ладные такие. Не хуже, чем наш старый. А его на верфи делали.
Мне показалось, что Пустотный грузнее, чем обычно, оперся локтями о стол. Потом боцман долго и солидно прокашливался, словно сидел он в чужом неуютном доме. Приглядевшись К Пустотному, Гошину, Андрею, припомнив наш кубрик, кубрик того старенького потрепанного катера, с которого мы ушли перед уходом в Америку, я и вправду почувствовал, что среди этих зеркал, плафонов, полированного дерева и занавесочек мы выглядели действительно чужими. Раньше этого не чувствовалось. Ни в Америке, ни по дороге. А вот у стенки пирса в базе — почувствовалось. Это было странное ощущение.
Я подсел к столу и тоже, как и боцман, оперся локтями о стол. Тут мне пришло в голову, что я стараюсь сидеть, как боцман, и даже сам с собой разговариваю, как боцман, — ворчу, а не разговариваю. Мне это не понравилось. Все равно от такой привычки придется отвыкать.
При свете разговор как-то не клеился.
— Андрей, может, патефон заведешь? — попросил я.
— Да… — протянул тот и махнул неохотно рукой.
Ему явно не хотелось возиться с патефоном. Вот уж необыкновенное дело.
— Да, — уже совсем другим тоном сказал Андрей. — Наши тут времени не теряли. Взять хоть сегодняшний воздушный бой. Сколько «ястребков» в небе! Фашистам и развернуться негде — тесно.
— Здорово! — сказал я. — Такие фигуры выделывали — лучше, чем на воздушном параде.
— «Па-ра-де»… — старательно выговаривая «а», протянул Пустотный. — Они не на живот, а на смерть дрались, а ты про парад. Болтались мы бог знает сколько времени, черт знает где, а принесли что воды в решете.
— Напрасно ты так, — сказал Гошин. — Эти тоже пригодятся.
— Оно верно — пригодятся. Кто же говорит, что не пригодятся. На войне каждая винтовка пригождается. Только вот за это время-то наши вон что понаделали! Сам считал в ковше. И пирс новый, и катеров — не меньше, чем мы пригнали. А про самолеты я не говорю.
— Эх, Майами, штат Флорида! Пляжи, пиво, прогулочки… — нараспев протянул Андрей.
— Наш-то старый потопили фашисты. Со всей командой. И соседний, триста восьмой, что по правому берегу от нас швартовался… Тоже. Эх! Ладно, поговорили. Время — отбой.
Вахтенным у трапа я заступал в двенадцать ноль-ноль. Думать об увольнении не приходилось. Поэтому я с утра отправился в радиорубку и принялся чистить аккумуляторы.
— Чегой-то ты? — удивился Федор.