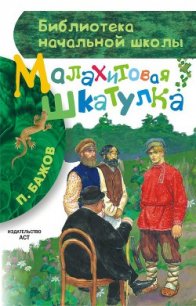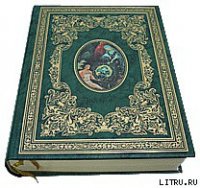Живинка в деле - Бажов Павел Петрович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
Об этом разговоре я забыл и вспомнил только после того, как произошло нечто, удивившее меня.
Мы сидели и сумерничали с Андреем Петровичем в горнице. Старик то и дело поглядывал в окно. Поджидал внука.
Маленький Андрей, как и многие другие его одногодки, часто рыбачил на озере. Мальчики продалбливали во льду лунки и опускали в них свою нехитрую рыболовную снасть. Без удачи ребята домой не возвращались. Озеро Чаны очень богато рыбой. Для удильщиков здесь сущее раздолье.
— Не приключилось ли что с ним? — забеспокоился старик. — Не побежать ли мне на озеро?
Я вызвался пойти туда вместе с Андреем Петровичем. Оделись, вышли на лед. Озеро в ста шагах. Мороз под двадцать — двадцать пять градусов. Тишина. Никого.
Вдруг я заметил черную точку:
— Не он ли?
— Не иначе, что он, — сказал старик, и мы направились к черной точке, которая вскоре оказалась внуком Андрея Петровича.
Мы увидели мальчика в обледеневших слезах. Руки его были до крови изрезаны рыболовным шнуром. Он явно поморозил нос и щеки.
Старик подбежал к нему и начал оттирать снегом лицо мальчика. Я взял из его рук шнур. Для меня стало сразу все понятно: мальчик поймал щуку, которую не мог вытащить.
— Побежим, внучонок, домой, — торопил его дед.
— А щука-то? Как же щука? — взмолился мальчик.
Тем временем я вытащил щуку. Утомленная рыба не сопротивлялась. Это была одна из тех щук, которых привозят на базар не столько для барыша, сколько для погляда. Их мясо невкусно и жестко.
Щука недолго билась на морозе.
Дед с гордостью посмотрел на громадную рыбу, потом на внука и сказал:
— Не по плечу дерево… Ну, да ведь ты не знал, что разбойница тяжелее тебя попадет… Давно ли попалась-то она?
И мальчик ответил:
— В обед.
Андрей Петрович улыбнулся в бороду:
— Значит, ты с ней часа четыре валандался.
— Долго! — ответил, повеселев, Андрюша. — А привязать было не к чему.
Старик, оттерев лицо и руки мальчика, повязал его, как платком, своим шарфом, и мы отправились к дому. Уснувшую щуку я тянул за собой по снегу на шнуре.
Дома Андрюшу раздели, разули, натерли снадобьями, перебинтовали его изрезанные руки. Он вскоре уснул. Спал тревожно. У него был легкий жар. Он бредил во сне:
— Не уйдешь, зубастая, не уйдешь!.. У меня дедушкин характер.
Андрей Петрович, сидя на дальней лавке горницы, незаметно вытирал слезы.
К полуночи мальчик успокоился. Жар спадал. Наступил ровный, спокойный детский сон.
Старик в эту ночь не сомкнул глаз. А утром, когда Андрюша проснулся, старик сказал ему:
— А все-таки ты, Андрей Петрович, худо дедов наказ помнишь! Не по своей силе рыбину задумал поймать. Крюк-то, гляди какой привязал — как якорь… Значит, именно ты метил срубить дерево не по плечу. Худо это, худо…
Мальчик, потупившись, молчал. А дед продолжал внушать:
— Ну, да первая оплошка в счет не идет. Она как бы за науку считается. Впредь только таких щук не лови, которых другим за тебя надо вытаскивать. Стыдно это. Народ просмеивает тех, что не по спине мешок на себя взваливают, что не по кулаку замахиваются… А то, что ты не отступился от нее, — это правильно.
Тут два Андрея Петровича обменялись улыбками, потом обнялись.
Щука лежала в сугробе, припорошенная снегом. Когда же пришла суббота, Андрей Петрович вынес ее на базар и воткнул хвостом в снег. Он просил за нее слишком дорого, потому что ему вовсе не хотелось продавать эту чудо-рыбину. Ему нужно было рассказать людям, каков характер у его внука, Андрея Петровича Шишкина, шести лет от роду, который знает уже одиннадцать букв и может считать до двадцати без осечки.
Трудовой огонек
У одной вдовы сын рос. Да такой пригожий, даже соседи налюбоваться на него не могли. А про мать и говорить нечего. Рукой-ногой ему шевельнуть не дает. Все сама да сама. Дрова-воду носит, пашет, жнет, косит, на стороне работенку прихватывает — лаковые сапоги да звонкую гармонь сыну зарабатывает. Вырос у матери сын. Кудри кованым золотом вьются. Уста алые сами собой смеются. Красавец. Жених. А невесты не находится. Ни одна за него не идет. Отворачиваются.
Что за чудеса?
А чудес тут никаких нет. Дело простое. Чужой травой в трудовом поле сын вырос. С руками — безрукий, с ногами — безногий. Ни сено косить, ни дрова рубить. Ни ковать, ни пахать. Ни корзины плести, ни двор мести, ни коров пасти.
Солому метал — с телеги упал. Рыбу ловил — в пруд угодил, еле вытащили. Дрова носил — живот занозил. Кто такого товарищем назовет?
Хороводы водить не зазывают. Работать напарником не принимают. Маменькиным божком, лаковым сапожком кличут. Круглым неумельником, на завалинке посидельником дразнят. Пустоцветом величают.
Малые ребятишки и те смеются. Каково это ему?
Затосковал парень, зарыдал. Так-то он зарыдал — кирпичная печь и та вздохнула. Дубовые стены избы и те разжалобились. Пол тоскливо заскрипел. Потолок насупился, почернел, задумался.
Жалеют!
А он слезы льет, приговаривает:
— Зачем ты меня, матушка, так любила? Для чего ты меня, родимая, в безделье холила, в лености пестовала, в неумельности вырастила? Куда я теперь с моими руками белыми, квелыми, неумелыми?
Похолодела мать, обмерла. А ответить нечего.
Чистую правду ей в лицо горькими слезами сын выплеснул. Поняла мать, что ее слепая любовь злосчастьем сыновним обернулась.
Ночи не спит — как дальше жить, не знает. Днем места не находит.
Только нет на свете таких слез, которые не выплакиваются, такого горя, которое не размыкивается, такой думы, которая не додумывается. Не зря говорят, что в тяжкий час и печь разумеет, стены помогают, потолок судит, половицы с умом поскрипывают.
Наскрипели они ему что надо, утешили. Слезы высушили, добрый совет дали.
Обул сын тяжелые отцовские сапоги, надел его рабочую одежу и пошел по белому свету бездельные годы наверстывать — заново расти.
Нелегко было рослому парню в подпасках ходить, в двадцать один год с топором знакомство сводить, гвоздь в стену учиться бить, руки белые, квелые, неумелые на ветру дубить.
Знают только лютый мороз да жаркое солнышко, какими трудами кудрявый сын до дела дошел. Мастером домой вернулся. На ткачихе женился, тоже не из последних мастериц. Как родную ее полюбила старая мать, и больше того, когда она ей внуков родила. До того пригожие они росли, хоть на карточку снимай да в рамку ставь.
Без ума любила их бабушка, только пестовала с умом. Не как сына.
Кровью, бывало, жалостливое старухино сердце обливается, когда старшенький внук в трескучий мороз дрова пилить собирается. Сердце старухе свое твердит: «Не пускай, пожалей, ознобится», — а она: «Иди, милый внук-богатырь. Дубей на ветру. С морозом спорь. Отцовскую трудовую славу своим трудом подпирай».
У внучки, бывало, глазенки слипаются, ручонки еле веретено крутят, а бабушка ей: «Ах какая у нас тонкопряха растет проворная, да неустанная, да дреме-сну неподатливая».
Замиловать бы девчоночку, по пальчику бы ее ловкие ручки перецеловать, а старуха изъян в пряже ищет. То в нитке тонина неровна, то слабина одолевает. На изъяны укажет и хорошее заметит. Да не просто так, а дорогой бабушкиной лаской, редким огневым словом душу девчонке осветит и согреет.
Попусту, бывало, самого любимого, меньшого внука не приласкает. За работу жалует. Не велик труд чашку подать или там лукошко с угольями к самовару поднести, а для четырехгодовалого и это за работу меряется.
Как про такого за столом при всей семье не сказать: «Меньшой-то у нас трудовым человеком растет. Веник подает. Угли подносит. Самовар караулит. Кошку кормит».
А тот, до ушей от радости красный, сидит да на ус мотает и думает: «Какое бы еще дело сделать, чтобы у бабушки в чести быть?» Сам себе работу ищет, дела придумывает.
Мастерами, мастерицами вырастила бабушка своих внучат. И кудри у них к лицу вьются, и дорогая лента в косе по заслугам красуется, и лаковые сапоги по делам горят. Трудовой завязи люди. Умельники. В бабушку.