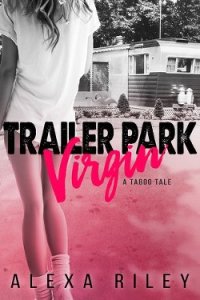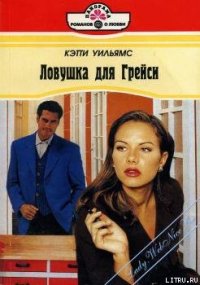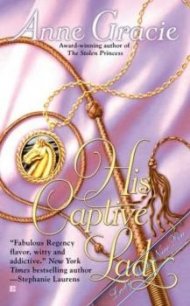Невероятное путешествие мистера Спивета - Ларсен Рейф (книга жизни .txt) 📗
– Мисс? – с сильным акцентом произнес он, поднимаясь, на миг зажмурился и снова открыл глаза, словно пытаясь прочистить их. Но Эмма все не уходила.
Она вздохнула. Постоянное жужжание в голове устало и неохотно затихло.
– Мне хочется пить, – сказала она. – У вас найдется вода?
На этом записи обрывались. Я пролистал остаток блокнота. Последние двадцать страниц были чистыми.
Я аж запаниковал.
Издеваетесь, да?
Как могла она остановиться, перестать писать? Ведь это же самое главное! Она хотела вычислить, почему Эмма и Терхо остались вместе. Зачем же останавливаться? Я жаждал сочных подробностей – ну ладно, сознаюсь, может быть, даже сочных эротических подробностей (я даже прочитал двадцать восьмую страницу в школьном экземпляре «Крестного отца»).
«Мне хочется пить. У вас найдется вода?» Пробный заход, а потом бац! – она уже не первая во всей стране женщина-геолог, а жена неотесанного финна. Неужели? Столкнувшись с постоянными домогательствами и унижениями со стороны коллег-мужчин, Эмма просто-напросто сдалась, отказалась от своей мечты и избрала самый простой путь – предпочла науке крепкие объятия Терхо?
Я знал: мужчина и женщина влюбляются друг в друга не просто для слияния их профессиональных областей. Но почему же, почему в нашей семье снова и снова высокообразованные женщины влюблялись в мужчин из совершенно иной среды? В мужчин, чья профессия основана не на теориях и результатах наблюдений, а на увесистой кувалде? Быть может, общность профессии вообще действует отталкивающе, как одинаковые полюса магнитов? Неужели подлинная крепкая любовь, связывающая на всю жизнь, требует некоторой интеллектуальной несостыковки – чтобы смести с дороги нашу неуемную логику и вступить в неровное, неотшлифованное пространство внутри самого сердца? Способны ли два ученых полюбить друг друга такой природной, безрассудной любовью?
Дрейфуя в «Ковбое-кондо» через потусторонний мир, я гадал, дописала ли мама эту судьбоносную сцену, в которой Эмма и Терхо влюбляются друг в друга? А может, и нет. Может, она осознала, что не способна вычислить причины, по которым это произошло, точно так же, как не способна внятно ответить, почему сама она выбрала именно моего отца. Или же, возможно, недостающая сцена таится в другом блокноте с пометкой ЭОЭ, замаскированном под полевые наблюдения за жуком-наездником. Ох, мама, мама, что ты делаешь со своей жизнью?
Я уже собирался окончательно закрыть блокнот, как вдруг бросил взгляд на последнюю страницу. Наверху было просто исчеркано, как будто доктор Клэр расписывала ручку. А почти в самом низу она написала одно единственное слово. {138}
Оно застало меня врасплох. Я меньше всего на свете ожидал увидеть это имя в таком месте. Неужели она тоже знала его? Живущий во мне образ Лейтона со всеми его сапогами, винтовками и пижамами с изображением космонавтов казался неимоверно далеким от мира Эммы, Гайдена и научной экспедиции девятнадцатого века. Как будто кто-то чужой украл этот блокнот и написал там его имя. Я пригляделся повнимательнее. Почерк мамин.
Она тоже знала его! И не только знала – она его родила. Их связывали уникальные биологические узы, глубину которых постичь я не мог. Должно быть, потеря была безмерной – однако доктор Клэр, как и все остальные на ранчо Коппертоп, практически не упоминала его имени после похорон.
Не упоминала – но написала.

Я смотрел на шесть жмущихся друг к другу букв. До меня вдруг дошло, что наше семейное отрицание смерти Лейтона – не только смерти, но и самого его существования – не имело никакого отношения к нему самому. Это было защитным укреплением, что мы построили, лишившись его. Таков наш выбор – но так быть не должно. К чему тратить столько сил на столь бесплодную и невыполнимую задачу? Лейтон жил во плоти. Мои воспоминания о том, как он мчался по лестнице, перескакивая по три ступеньки за раз, или загонял Очхорика в пруд, так что казалось, они оба пробегут еще какое-то расстояние прямо по воде, прежде чем уйти вниз – все эти воспоминания были реальностью, а не просто мимолетной выдумкой, не подкрепленной нашим совместным опытом. Какая-то часть меня не желала признавать все, что произошло до сих пор, а другая часть хотела признать только прошлое и откреститься от настоящего.
Лейтон никогда бы не запутался в таких телеологических сетях. Он бы просто сказал:
– Пошли, посшибаем жестянки с того забора.
А я бы спросил:
– Но почему ты застрелился в сарае? По случайности? Или это я тебя вынудил? Это я во всем виноват?
Я смотрел на эти шесть букв. Ответов на мои вопросы никогда не будет.
Глава 10

Я проснулся в «виннебаго», весь залитый потом. Воздух в кабине был жарким и душным – как на чердаке, куда давным-давно никто не заходил. Лежа на двуспальной кровати со сбившимся у колен пасторальным покрывалом, я не мог отделаться от ощущения, что что-то внутри фургона разительно изменилось.
Проведя кончиком большого пальца под носом, я собрал на него капельку пота и тут осознал, почему не могу сказать точно, что же изменилось вокруг. Изменилось все. Все стало живым. Мир вернулся! Жара, струящиеся через жалюзи потоки яркого света, далекий басовитый гул, от которого мышцы на щеке легонько вибрировали. Весь «Ковбой-кондо» постоянно потряхивало, пластиковые бананы дребезжали на полке. О, свет и радость! Законы термодинамики вернулись! Вернулись причины и следствия! Добро пожаловать, друзья, добро пожаловать!
Приоткрыв большим и указательным пальцами жалюзи, я выглянул в щелочку и аж застонал от потрясения.
Панорама огромной многоуровневой развязки! Ну и зрелище!
Ну ладно, ладно, я видел такие на фотографиях. Даже видел, как в одном фильме герой перепрыгивает на автобусе с одного уровня на другой – но все же мальчика с ранчо множественное схождение плывущих в воздухе автомагистралей совершенно ошеломляло. Несомненно, отчасти напавший на меня умственный паралич объяснялся тем, что я провел несколько дней в условиях полной сенсорной депривации Среднезападного пространственно-временного туннеля – или как там еще можно назвать подобную квантовую неравномерность. После такого опыта резкий переход к любой осязаемой реальности был бы чреват синаптической травмой – а уж тем более к такой вот реальности! Предо мной раскинулась змееподобная структура цивилизации: трехуровневый лабиринт из шести мостов, прекрасных и манящих в своей сложности, однако четко продуманных и практичных в использовании. Непрерывный поток машин струился по ним во все стороны и на разной высоте – причем водители словно бы и не осознавали, какой синтез бетона и теоретической физики поддерживает их на поворотах. {139}
А за развязкой, насколько хватал глаз, тянулись высокие здания, пожарные выходы, водонапорные башни и просторные улицы – все это убегало в даль: даль, составленную все теми же высокими зданиями, пожарными выходами и водонапорными башнями. Глубина картины, количество перехлестывающихся линий, множество представленных материалов – все это повергло меня в первую стадию гипервентиляции. Подумать только: в какой-то момент истории каждое отдельное здание, каждый металлический поручень, каждый кирпичик, карниз и коврик у двери были помещены сюда кем-то конкретным, руками какого-то человека! Пейзаж предо мной был невообразимым творением рук человеческих. И хотя горные хребты, обступившие ранчо Коппертоп, статной мощью превосходили это скопление домов, однако существование гор всегда казалось мне неизбежным – естественным побочным эффектом эрозии и движения тектонических плит. Здесь же небрежной предначертанностью и не пахло. Во всем – в решетке улиц, в телефонных проводах, в форме окон, в скопищах труб и в тщательно настроенных тарелках спутникового телевидения – решительно во всем проявлялись доказательства коллективной одержимости уютной логикой прямых углов.