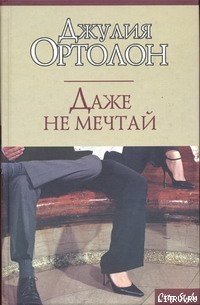Приемная мать - Раннамаа Сильвия (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
О веселом и легком?
— Не-ет, тогда, может быть, лучше я приду завтра.
— Нельзя. Единственное желание больного — видеть вас. Когда он был без сознания, он бредил только о вас. Ведь вы молодая девушка, неужели не можете на пять минут взять себя в руки? Ради него.
Я не гожусь в солдаты. У меня ни капли отваги. Я сразу раскисаю и готова пуститься наутек. Сидела за дверью и собиралась с силами, пока не решила, что теперь справлюсь.
Сестра заверила, что надежда есть, потому что больной «молодой и сильный». В первую минуту я не узнала этого «молодого и сильного». Когда я вошла, он смотрел в сторону окна, и такая безмерная усталость была на его прозрачном, восковом лице, что оно казалось старческим: так мало было в нем жизни, и она, казалось, уже ускользала.
Только когда я вплотную подошла к его кровати, он повернул голову, увидел меня и на одно короткое мгновение краски и жизнь словно бы вернулись на его ставшее совсем чужим лицо.
За дверью я все хорошенько продумала. Как я расскажу ему забавную историю, которая произошла сегодня утром с Сассь, как она с тарелкой щей налетела на Прямую и... Вот здесь, стоя у постели Энрико, я чувствовала такое неописуемое, огромное несоответствие между будничной, счастливой школьной жизнью и лежащим здесь Энрико, что было совершенно невозможно притворяться веселой и молоть всякий вздор. Глубоко запавшие глаза смотрели на меня с каким-то настолько мучительным вопросом, что я сжала руками спинку кровати и не могла произнести ни слова. — Садись, Кадри!
Его голос и бессильный жест, указавший на табуретку, потрясли меня еще больше. Ведь невозможно же, чтобы человек молодой, цветущий человек, который всего несколько дней назад был самым лучшим и сильным спортсменом в команде, который съедал за обедом по несколько порций, который шутя поднимал младших ребят, каждого одной рукой и поднимал их высоко, над собой, мог так измениться.
Я села. Так сильно закусила губу, что вкус крови остался у меня во рту, но это было совершенно бесполезно.
— Куколка, опять ты из-за меня плачешь? Прости. Вечно я заставляю тебя плакать.
Ох, никому на свете не пожелаю проливать такие слезы! «Куколка», сказал он мне. Это была его улыбка, чтобы утешить меня. Он утешал меня! Просил прощенья! Энрико просил прощенья у меня?!
Я слишком хорошо помню, что означает такая перемена в человеке. Я не забыла еще мою строгую и суровую бабушку, которая с каждым днем, приближавшим смерть, становилась все молчаливее и ласковее. То, что не может жизнь, может приближающаяся смерть.
Прощенья просил Энрико у меня! У меня, кто должен бы стоять у его постели на коленях и благодарить его!
Когда я вновь очутилась на лестнице и остановилась, не видя ничего от слез, кто-то тихонько взял меня за локоть.
— Ну, что же ты тут стоишь. Пойдем.
Это был Ааду. Значит, и его привело сюда беспокойство. У него болело сердце за судьбу единственного друга, а мне нечем было его утешить.
— Ты его видела? Ну, как он? — спросил Ааду, а я в ответ расплакалась еще горше. Мы шли рядом по дороге к школе. Я всхлипывала, а Ааду молчал. Только немного спустя, когда мне удалось с собой справиться, я рассказала ему о том, что видела.
— Чертовы мерзавцы! — И Ааду поддал ногой валявшийся на дороге камень. — Я сейчас ходил в милицию. Их еще не поймали. Может, и не поймают. Сегодня ночью кто-то пытался забраться в кооператив. Ясно, что их работа. И опять скрылись.
Ааду злился, и мне показалось, что он даже скрипнул зубами. Чем резче говорил Ааду, тем лучше это на меня действовало. Я чувствовала, что в возмущении Ааду, этого обычно равнодушного и хладнокровного мальчика, я словно обрела для себя опору.
— Черт, это нельзя так оставить. Надо что-то предпринять. Ты слышала, как сделали в одном большом городе? Там тоже какие-то беглые заключенные начали было всех терроризировать. Представляешь, все комсомольцы вышли на улицы. Группами по несколько десятков человек, и за какие-то две недели город был очищен. Нам было бы достаточно двух-трех ночей. Если бы собрать всех ребят. Со всего города. Надо справиться!
Я взглянула на него. Неужели это действительно был Ааду Аадомяги, мой одноклассник, который до сих пор прославился только одним подвигом — отказал девочке, пригласившей его танцевать? Я смотрела и прислушивалась. Стояла пораженная. Как попало ч у в с т в о на лицо Ааду? Большое, человеческое, страстное чувство.
И всамом деле, никто иной, как наш Ааду, в тот же вечер организовал чрезвычайное собрание и всех девятиклассников и десятиклассников разом привлек к этому делу. Только Свен из-за своей больной ноги, которую он все еще с трудом волочил, не смог примкнуть к ребятам.
Нам предстояло охватить всю городскую молодежь и, прежде всего, конечно, школьников. Мы с Ааду сходили даже в комитет комсомола и в милицию. Всюду встретили поддержку. Не знаю, когда мы в те дни занимались, когда спали, но усталости не чувствовали.
Уже на следующую ночь на дежурство вышли первые патрули школьников и заводских. Наши ребята добровольно взяли на себя более частые дежурства.
Мы были единственной школой, где в этом деле участвовали также и девочки. А именно — Лики, Веста, я и даже Марелле. Другие чувства помогли мне подавить страх. Правда, это далось нелегко, но я знала одно: только так я смогу жить дальше. У меня, как, впрочем, у всех нас, была одна мысль — найти и уничтожить то страшное, что покушается на спокойные весенние ночи нашего города. На мирные дни нашей юности, чтобы омрачить их. Теперь я не понимаю, откуда брались силы часами ходить по ночным улицам, я впереди, а мальчики на расстоянии, так, чтобы их нельзя было сразу заметить.
Насколько сильнее стала я за время этих необычных прогулок, Я закалилась не только на эти короткие весенние ночи, но и на всю жизнь. Это я знаю теперь, но ясно чувствовала и тогда. Именно это сознание помогло мне преодолеть мою самую большую слабость — трусость. Сначала я готова была поднести к губам свисток, завидя любую движущуюся тень, каждую секунду я ощущала весь ужас недавно пережитого, и каждую секунду снова преодолевала его... Мне это удалось. Быть может, только это сейчас и поддерживает меня немного.
Очень хочется забыть это время. Но разве такое забудешь! Такие воспоминания уходят в глубину, мы перестаем их ощущать, как нечто пришедшее извне, и со временем они перерастают в то или иное качество нашего всегда обновляющегося «я»...
Это была удивительная весна. Слишком удивительная. Я узнала отчаяние и страх. Научилась преодолевать их ненавистью. Ненавистью к человеконенавистничеству. Ненавистью ко всему бесчеловечному, и в этих, жестоких событиях и мыслях открыла для себя нечто, воплотившееся во многих глазах близких мне людей, нечто, о чем я очень много читала и слышала, что до сих пор было для меня чем-то далеким, а этой весной стало ясно ощутимым, поразительным и трогательным.
Любовь!
Я избегала употреблять это слово в своем дневнике, потому что считала себя молодой и глупой, да так оно и было... Лишь очень смутно я различала твой далекий отзвук в песне без слов лебединой стаи и во всем прекрасном и добром, что встречала в жизни. И в светлом и чистом тепле дружбы. Но ты другая. Иногда ты можешь быть совсем другой, как ни в одной книге и ни в одной жизни...
Иногда ты как папоротник, что цветет только в легендах и растет в тени. Одну такую легенду, странную, необыкновенную, могу рассказать и я.
Трудными были дни, когда я возвращалась из больницы и каждый встречный расспрашивал меня, а я только и могла ответить: надежды очень мало. Еще труднее было в эти дни из-за снов Марелле.
Да, тут-то они и начались. Каждое утро она рассказывала мне что-нибудь мучительное, какие-то кошмары, бессмысленные и бредовые. Пока и мне не начали сниться еще более страшные вещи. Я стала бояться Марелле, как вестника смерти или самого страшного сна. Наконец, однажды я не выдержала и накричала на нее. Наверно, это было очень грубо, потому что Марелле расплакалась. Мне стало очень стыдно и от души жаль Марелле, но все-таки я не смогла не думать: о том, что впервые вижу ее плачущей и не заметить, что плачет она как-то по-особенному и делается просто отталкивающе некрасивой.