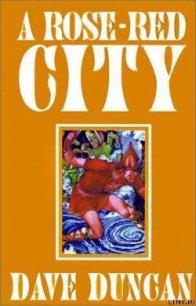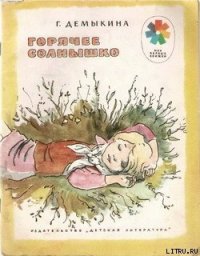Красно солнышко (Повесть) - Шустров Борис Николаевич (книги полностью txt) 📗
— Что же тогда произошло?
— Не знаю, Веня, не знаю. Помню, как нашли Мишку в Стриге. Приехал следователь. Ходил по домам, расспрашивал, с кем встречался Мишка в последнее время, о чем говорил. А с кем? Со всеми встречался! Деревня невелика. Поговорил да с тем и уехал. Написал, что утонул по собственной вине. Дедушка твой могилку ему выкопал, похоронили, погоревали, поплакали… А я, Веня, не верю.
— Во что ты не веришь?
— Да вот что по собственной вине… Август. Время холодное. Ты, к примеру, в августе купаешься?
— Когда как. Прошлым летом и в сентябре купался.
— Прошлое лето изо всех было. Жаркое. А в сорок пятом, помню, березы в августе облетали.
— И почему же ты не верила? — как можно равнодушнее спросил Венька. — Все верили, а ты нет?
— Почему? — повторила мать. — А я и сама не знаю почему. Только вот чует мое сердце, что не своей смертью умер Мишка.
— Как не своей? — прошептал Венька.
— Не спрашивай ты меня ни о чем, Венька, не спрашивай! — Мать посмотрела на дверь комнаты, в которой находился отец, и понизила голос: — Я как-то сказала об этом отцу, а он на меня и зашумел: не выдумывай, мол! Ты, сынок, теперь взрослый, можно и рассказать. — Мать придвинулась поближе к сыну, обняла его за плечи, долго смотрела в темное окно и снова улыбнулась светло и печально. — Мишкина невеста… Незадолго до того, как Мишка утонул, прибежала я к тетке Настасье, спрашиваю Мишку, а она отвечает: мол, с утра ушел. Я-то знала, что Мишка на колокольне. Он любил бывать там, смотреть на леса, на речки, на деревеньки, мечтать любил. Он стихи писал. А и правда, красиво было смотреть сверху, особенно по утрам. Зелено кругом, радостно… Было поздно, на улице темень — глаз коли! Страшно, но я все-таки пошла к церкви, набралась смелости. Подошла, а тут и луна из-за туч выплыла, стало повеселее. Забралась я на колокольню, смотрю, а Мишка лежит и тихонько так посапывает. Спит. «Мишка!» — позвала я его. Он сразу же открыл глаза и говорит: «А ты мне снилась, Анютка». — «И какая же я была?» — спрашиваю. «Красивая». — «В каком платье?» — допытываюсь. «В обыкновенном», — Мишка-то говорит. «Неинтересно, — отвечаю. — Если бы в бальном белом, до пят. Как в кино». Девчонка совсем была. Дурочка. — Мать усмехнулась. — «В кино их специально одевают». — «А ты мне тоже снился», — говорю. Соврала. Думаю, дай скажу, что снился, раз уж я ему приснилась. «В этом барахле, что ли?» — спрашивает меня Мишка-то и показывает на отцовский пиджак. Широкий такой был пиджак. Плохо мы одевались, Веня. Я одно платьишко пять лет носила. И купить было негде, да и не на что. Война. А Мишка ходил в отцовском пиджаке. «Нет, говорю, не в барахле. В смокинге». Мишка даже привстал: «В че-ом?!» — «В смокинге. Костюм такой». — «Эх, если бы в гимнастерке!» — сказал Мишка. Глаза у него вдруг сделались злые, я даже испугалась. «Что с тобой, Миша?» — спрашиваю. Он посмотрел на меня и вдруг скользнул вниз по лестнице. «Подожди, — крикнул. — Я сейчас!» Осталась я одна на колокольне. Ты бывал там?
— Не один раз, — ответил Венька.
— Раньше там был настил из досок…
— И теперь есть.
— А между досками были широкие отверстия, через которые хорошо проглядывалась сама церковь. Аналой, иконостас, фрески… И вот, Веня, посмотрела я вниз и увидела какого-то человека. Он стоял на коленях и молился. Из решетчатых окон и широкой двери падал лунный свет, и человек казался огромным, как великан. Молился часто, торопливо, шептал что-то. Вернулся Мишка. В руке у него был белый узелок…
При последних словах Венька вздрогнул, но мать, видимо сама переживая прошлое, ничего не заметила, а Венька постарался побыстрей овладеть собой.
— Я хорошо заметила узелок, — продолжала мать. — Мишка хотел что-то сказать, но я указала ему на человека, и Мишка склонился к отверстию. «Кто?» — спросила я. Человек встал с колен, долго смотрел на иконы, потом вдруг схватил камень и швырнул его в образа. Я вскрикнула. Мишка прижал меня к себе. А человек постоял-постоял, повернулся и быстро вышел. Не успела я и слова сказать, как Мишка снова скользнул вниз по лестнице. И снова мне сделалось страшно, так страшно, что я тихонько заплакала. А Мишки все не было и не было… Я стала спускаться вниз и на полпути узкой лестницы встретила Мишку. Мы вышли на улицу. Было тихо-тихо. «А где узелок?» — спросила я. «Какой узелок?» — «Не притворяйся, — говорю. — Беленький такой узелок!» — «Тебе показалось», — сказал Мишка и сразу перевел разговор на одного паренька из нашего класса. Узнал он, что паренек тот записку мне написал. Про любовь. «Я ему башку оторву!» Мишка-то стращает, а я ему: «Он тебя сильнее. Он через весь класс на руках ходит». — «Сколько вон до той березы?» — спрашивает Мишка. «Много», — отвечаю. Встал Мишка на руки и пошел. Идет и идет. Руки дрожат, а он идет. Я его уговариваю: мол, не надо, перестань, верю, что ты сильнее. А он идет. Дошел до березы, упал на траву, улыбается. «Вот так, говорит, твоего Кольку!»
— Кольку? — повторил Венька.
— Чего уж там! — смутилась мать. — Отец твой записку-то мне написал. — Она помолчала. — Через несколько дней Мишка утонул.
— А про этого, в церкви, почему не сказала?
— Говорила. И отцу говорила, дедушке твоему, и Мирону Евсеичу, помню, говорила. И до следователя слух дошел. Говорю, всех расспрашивал…
— А об узелке?
— Об узелке никому не рассказывала. Правда, ходила я в церковь, искала, но не нашла. Может, и впрямь показалось. — Мать погладила Веньку по голове, внезапно спросила: — Так для чего ты в город ездил?
— За книжками. Сказали, что учебники в город привезли.
— И кто же тебе сказал?
— «Кто, кто»! Ребята.
— Валька?
— Не-е… Репинские ребята. Я шел мимо остановки, а они и говорят: мол, в город за учебниками едем. Вот и я поехал.
— И где же учебники?
— Распродали.
Мать долго смотрела в глаза сыну, но Венька не отвел взгляда, выдержал.
— Ох, Венька, Венька, — все-таки не поверила мать. — Не умеешь врать и не учись. Ведь все равно дознаюсь! Иди, смотри свой хоккей.
Чтобы не возбудить подозрений, Венька решил посмотреть хоккей, но после первого тайма сослался на усталость и ушел на сеновал, где спал, начиная с июня, прямо на душистом луговом сене. Он смотрел в прорезь крыши на ясную синюю звездочку и думал о Мишке и своей матери. Он и раньше слышал, как тяжело было жить в войну, ему не раз об этом рассказывал отец, но Венька не принимал рассказы близко к сердцу, они проходили мимо него, не запоминались, а тут он вдруг понял, что и мать, и отец, и Мишка Башарин были такими же подростками, как и он, и мечтали, и любовные записки писали, и дрались, и все-таки они были другими. Да разве наденет сейчас Венька отцовский пиджак? Или бросит школу, чтобы, как Мишка, пахать землю, грузить мешки, сеять хлеб? Отец ему бросит! Так бросит — своих не узнаешь. Они были другими, они жили в трудное время, жили в войну.
Итак, размышлял Венька, видели узелок и бабка Агнюша, и мама. Значит, он должен где-то быть; может, лежит где-нибудь в тайнике, где-нибудь в церкви. Конечно же, в церкви! Куда еще мог запрятать его Мишка в столь короткое время, пока мама находилась одна на колокольне? Конечно, он мог перепрятать его на следующий день в другое место, положим на чердак своей избы или еще в какое-то тайное, ему одному известное место. Мог. Но мог и не перепрятать. И лежит сейчас узелок где-то в церкви. Венька поднялся и подошел к оконцу сеновала. На краю деревни в лунном свете, белая и строгая, стояла церковь. Она стояла на пригорке и хорошо виднелась с основания до купола. А вон и колокольня, округлая, напоминающая формой шар, с прямоугольными проемами.
Венька оделся, неслышно спустился по приставной лестнице на землю, огляделся и нырнул в малинник. Перепрыгнув соседский плетень, он огородами побежал к церкви. Когда до храма осталось несколько шагов, остановился и прислушался. Тихонько позвенивало где-то железо, видно, шевелил ветер кровлю; далеко, в Совином болоте, утробно вскрикивала какая-то птица. Зашуршала трава. Венька резко обернулся. К нему бежал Индус.