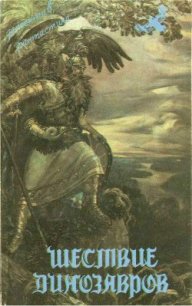Седьмая симфония - Цинберг Тамара Сергеевна (список книг .txt) 📗
— Что ж, давай, — сказал управхоз и вздохнул. — У меня кругом пусто: кто эвакуирован, кто умер, кто на казарменном положении. Пожалуйста, хоть целую квартиру! — Он помолчал и прибавил с каким-то недоумением: — Дожили!
— Мне не надо целую квартиру, — серьезно сказала Катя. — Нам комнату. Какую-нибудь.
— А почему кто-нибудь из взрослых не пришел?
— У нас взрослых нет. Мы одни.
Управхоз посмотрел сперва на нее, потом на мальчика и покачал головой.
— Так, — сказал он, помолчав. — А с кем раньше жили?
— Я с тетей жила. Еще раньше я на Васильевском жила, с папой, а когда он на фронт ушел, я к тете переехала, сюда. А она еще в августе эвакуировалась, со своим учреждением. А я осталась, — добавила она тихо.
— А почему осталась?
— А папа тут недалеко был; они у больницы Фореля тогда стояли, знаете, за Кировским заводом. Он два раза к нам приходил. Я не хотела так далеко от него уезжать. Это ведь так далеко! Я думала, вдруг он еще придет, пешком, чтоб на меня посмотреть, а меня и не будет.
— И приходил?
— Нет, — ответила Катя коротко и замолчала.
Управхоз отвел глаза. Он знал, что она сейчас скажет.
— Убитый он… — наконец с усилием проговорила Катя и еле слышно добавила: — В ноябре.
— Так, — задумчиво произнес управхоз. — Так. А ты, значит, с братом здесь и сидишь. Славно распорядилась! На что же живете?
— Я пенсию получаю.
— Ну, давай документ. — Он открыл ящик стола и вынул из него домовую книгу.
А Катя тем временем сняла ремень, положила платок и книгу на стол и, расстегнув пальто, достала из внутреннего кармана помятый конверт, а из него вчетверо сложенную метрику. Потом она старательно расправила ее и положила на стол перед управхозом.
— Ладно, — сказал управхоз и стал писать в домовой книге, заглядывая в Катину метрику и вполголоса, с короткими паузами бормоча вслух: — Никанорова, Екатерина Дмитриевна… Год рождения? Так… Тысяча девятьсот двадцать восьмой. Двенадцатого числа… февраля месяца. Место рождения — Ленинград. Отец — Никаноров. Дмитрий Александрович. Мать… Никанорова. Елена Николаевна. Хорошо. Теперь давай братнину метрику.
— Как? — пробормотала Катя растерянно. — И его разве тоже надо записывать?
— А то как же? А он что, не человек? Если будет здесь жить, — значит, надо прописать его.
— Нет у него метрики, — сердито сказала Катя.
— Это почему же нет?
— Пропала она. Она в доме осталась, там ведь все пропало.
— Что ж это, свою небось с собой носишь, а его пропала?
— Он же маленький, — примирительно заметила Катя.
— Это не имеет значения, что маленький. Каждый гражданин должен документ иметь; не паспорт, так метрику.
Катя опустила голову.
— Ничего у него нет, — сказала она упавшим голосом.
Управхоз помолчал.
— Ладно, — сказал он угрюмо. — Его как зовут?
Он сердито потряс чернильницу с полузамерзшими чернилами, окунул туда перо и приготовился писать. Катя совсем растерялась. Лицо ее дрогнуло, и она испуганно посмотрела на Митю. Как его зовут? Но мальчик уже дремал, весь съежившись и привалившись к стене.
— Ну? — Управхоз взглянул на нее.
Катя смущенно опустила глаза и тут, прямо перед собой, увидела свою «Анну Каренину», лежащую на столе. Быстро подняв голову и смело глядя на управхоза, она сказала уверенно:
— Его зовут Сережа.
Управхоз был далек от мысли, что тут что-нибудь неладно. Он спокойно писал, заглядывая в только что сделанную им запись.
— Так. Стало быть, Никаноров. Сергей Дмитриевич.
Катя широко улыбнулась и посмотрела на мальчика. Ей показалось забавным, что это маленькое жалкое создание называют, как взрослого, Сергеем Дмитриевичем.
— Год рождения? — услышала она голос управхоза.
Она нахмурилась, стараясь вспомнить, что говорила тогда Анна Васильевна.
— Ему третий год, — проговорила она с облегчением.
— Год рождения — тысяча девятьсот тридцать девятый, — продолжал писать управхоз. — Какого числа?
— Что какого числа?
— Какого числа родился, ну, день рождения когда?
Катя молчала. Взгляд ее рассеянно скользил по грязным стенам, увешанным старыми плакатами, какими-то пожелтевшими объявлениями и сводками.
«Да здравствует Первое мая, международный праздник трудящихся!» Этот старый порванный плакат, косо висящий как раз над головой управхоза — словно ободряющий оклик из далекого, ясного, довоенного мира. Слова «Первое мая» были написаны на красном флаге.
— Первое мая, — сказала Катя неожиданно звонким голосом.
— Первого числа, — писал управхоз. — Мая месяца. Место рождения — Ленинград. Отец… Так. Мать… Ну, вот и все, — заявил он с облегчением.
И он еще раз взглянул на заполненную страницу домовой книги, густо исписанную, разлинованную, заклеенную гербовыми марками, где только что появилась новая запись: «Никаноров, Сергей Дмитриевич».
— Ладно, выправим ему метрику. Пошли! — сказал управхоз, вставая.
И захлопнул домовую книгу.
11
Тихий, засыпанный снегом, загибающийся влево канал. Здесь и всегда-то бывало немного народу, а сейчас и совсем ни души.
Это Коломна, старый район Ленинграда.
Узкая, едва заметная тропинка протоптана в снегу у самых домов, — и там они и идут, маленький управхоз и девочка с ребенком на руках.
Высокие деревья словно сдвинуты в сторону единым порывом ветра. Старые дома, невысокие, облупленные, растянутые в длину, довольно убоги, но все же сохраняют еще какое-то ампирное изящество. Треугольные наличники, чугунные решетки балконов, потрескавшиеся колонны, где под осыпающейся штукатуркой уже торчат кирпичи.
Но полно, живет ли кто-нибудь в этих домах? Окна частично забиты фанерой, а уцелевшие стекла совершенно замерзли. Трудно поверить, что за подобными стеклами еще может теплиться жизнь.
Они подошли к старинному трехэтажному дому. Управхоз вошел в парадную, и Катя торопливо последовала за ним. Они поднялись на третий этаж, и управхоз, вынув связку ключей, долго возился в полутьме, разыскивая тот, который был ему нужен. Потом он открыл дверь, и они вошли.
В передней было темно.
— Постой-ка, вот в той, кажется, все стекла целы, — сказал управхоз, и голос его раздался глухо и странно в тишине нежилой квартиры.
Снова проскрежетал ключ, и Катя вслед за управхозом нерешительно вошла в комнату.
Это оказалась довольно большая комната, которая, очевидно, служила кабинетом тем, кто жил здесь раньше.
Катя, все еще с ребенком на руках, внимательно оглядывала чужое жилище, в котором теперь она будет жить.
Большой письменный стол, старинный шкаф красного дерева, полный книг, широкий диван, два вольтеровских кресла. Что в этой комнате давно не живут, было заметно сразу: письменный стол был совершенно пуст, все мелкие вещи с него убраны, диван закрыт куском холста, кресла застланы газетами. На выцветших обоях отчетливо выделялись более темные пятна, оставшиеся от снятых картин. Книжный шкаф был поставлен перпендикулярно к стене, отгораживая от окон часть комнаты. Тут, за шкафом, в нише, и стояли эти картины и низкий деревянный сундучок.
— Тут профессор жил, ученый очень человек, книги писал, — говорил управхоз, видно, считая своим долгом познакомить таким образом старого профессора, живущего сейчас за тысячу верст отсюда в тихом сибирском городке, с этой хмурой девочкой, которую он, управхоз, привел в профессорское жилище.
— Ты тут ничего не трогай. На кухне, что надо по хозяйству, ну там чайник, ведра, — это бери; не такое время, чтобы считаться. А в комнате ничего не трогай. И главное, следи насчет затемнения — штору спускай аккуратно.
— Хорошо, — сказала Катя.
Она уже обошла всю комнату и теперь неподвижно стояла перед большой изразцовой печью.
Глаза ее медленно скользили по белым, блестящим, холодным изразцам.
— Печурки нету… — прошептала она упавшим голосом.
— Да, это действительно, — пробормотал управхоз. Он, нахмурившись, посмотрел на печь и добавил, словно оправдываясь: — Они ведь еще летом эвакуировались.