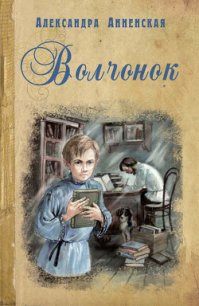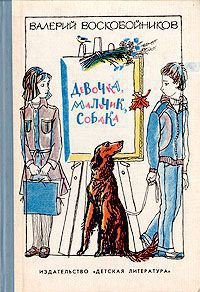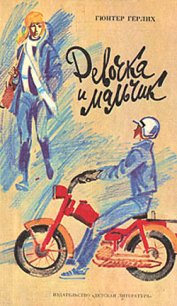Брат и сестра - Анненская Александра Никитична (е книги TXT) 📗
— Оставь меня, мама! — говорил он, вырываясь из ее объятий.
— Да отчего же оставить? — спрашивала бедная мать. — Разве ты меня не любишь. Лева? Разве ты не видишь, как мне тебя жаль?
— Если бы тебе было жаль, ты не позволяла бы папе бить меня!
— Да как же я могу не позволить, милый мой? Что же мне делать? — чуть не с отчаянием спрашивала Анна Михайловна.
— Не знаю, — угрюмо отвечал мальчик. — Ты большая, ты должна это знать, спроси у Глафиры Петровны, она небось не позволяет обижать Володю.
— И я бы рада не давать тебя в обиду, мое сокровище! Да что же мне делать, если я не могу!
— А не можешь, так оставь меня, ты мне не нужна! — И мальчик отворачивался от матери, а она, шатаясь от горя, с трудом добиралась до своей комнаты и там долго рыдала, уткнув голову в подушку.
Чем старше становился Лева, тем чаще происходили подобные разговоры между ним и матерью его. Кончилось тем, что Анна Михайловна перестала ласкать его, и бедный мальчик рос совсем одинокий, заброшенный, ненавидя всех окружающих, стараясь всем без разбора мстить за тс неприятности, какие терпел от отца и от тетки, делаясь с каждым днем все более и более злым и упрямым, все более и более заслуживая прозвание Волчонка, данное ему отцом.
Для Маши и Феди переход от мирной, спокойной жизни, какую они вели в доме матери, к тяжелой обстановке в доме дяди был слишком резок. Первые дни они как-то растерялись, пугливо приглядывались ко всему окружающему и не могли сообразить, как вести себя относительно родственников. Но скоро оказалось, что им нельзя жить у дяди так беззаботно, как они жили у матери: в семействе Григория Матвеевича всякий, даже маленький ребенок, должен был заботиться сам о себе, должен был сам хлопотать, как бы не попасть в беду, как бы защитить себя от нападений других. Здесь было мало слушаться старших, здесь надо было выбрать, кого из старших слушаться, так как Глафира Петровна очень часто расходилась с желаниями Анны Михайловны и, кроме того, нередко требовала от детей несправедливых и нехороших поступков.
Раз утром, дня через три по приезде детей из Петербурга, Володя и Лева, выпив скорее прочих свою порцию чаю, стояли у окна и смотрели на пробегавших мимо них школьников. Остальные дети еще сидели за столом около Глафиры Петровны. Вдруг Володя каким-то неловким движением руки ткнул локтем в стекло, и оно треснуло. В эту самую минуту в комнату вошел Григорий Матвеевич и послал Глафиру Петровну куда-то по хозяйству.
— Не сметь выдавать Володю, — шепнула она Маше и Феде, быстро уходя исполнить приказание братца.
Григорий Матвеевич тотчас же заметил случившуюся беду.
— Это кто сделал? — обратился он к двум мальчикам, в смущении не успевшим отбежать от окна. — Говорите сейчас! Ты, что ли, Володька?
— Нет, папа, не я! — проговорил испуганным голосом мальчик.
— Так ты, Волчонок?
— Неправда, не я! — мрачно процедил сквозь зубы Лева.
— Чего там не я! — закричал Григорий Матвеевич. — Кроме вас двух некому! Признавайтесь у меня тотчас! Ну, Володька, чего ты молчишь?
— Да это не я, папа, право, не я! — уверял мальчик.
— Значит ты, негодяй! — И Григорий Матвеевич уже замахнулся, чтобы ударить младшего сына, как вдруг маленькая ручка Маши удержала его руку.
— Дядя, — проговорила девочка дрожавшим от волнения голосом, — не трогайте Леву, не он разбил окно, а Володя.
— Володя? Так чего же ты отпираешься, дрянной мальчишка? — вскричал Григорий Матвеевич, хватая за ухо старшего сына.
В эту секунду Глафира Петровна вернулась в комнату.
— Братец, простите его, он нечаянно, — тотчас же заступилась она за своего любимца. — Володичка, стань на колени, проси у папы прощенья!
Володя опустился на колени и прерывающимся голосом повторял:
— Прости, папа, прости!
Смирение сына, видимо, понравилось Григорию Матвеевичу.
— Ну, чего перепугался, дурак, — проговорил он значительно смягченным голосом, — не убью тебя, небось! На этот раз, так и быть, прощу, только смотри у меня, коли опять сшалишь что-нибудь, вдвое накажу, так и знай!
Он дал мальчику поцеловать руку в знак помилования и вышел вон из комнаты.
— Кто же это пожаловался на Володеньку? — обратилась к детям Глафира Петровна, как только дверь за ним закрылась.
— Эта — она! — плаксивым голосом отвечал Володя, указывая на Машу.
— Дядя хотел бить Леву, — оправдывалась Маша, — а ведь Лева же не был виноват, я оттого и сказала.
— Вот нашлась заступница! — злобным голосом проворчала Глафира Петровна. — Ах ты негодная девчонка! Ведь я же нарочно сказала тебе, чтобы ты не смела жаловаться на Володеньку! Я тебе покажу, как меня не слушаться.

С этих пор Маша попала в немилость к Глафире Петровне. Девочка, привыкшая в доме матери вести себя хорошо, не делала ничего, заслуживающего наказания, но злая тетка постоянно находила предлог, чтобы придраться к ней и сделать ей строгое замечание: то она сидела не так, как следует, то глядела дерзко, то ничего не делала, то слишком много читала и тому подобное. Машу не особенно огорчали эти замечания. Она с первого взгляда невзлюбила Глафиру Петровну и всячески старалась держаться как можно дальше от нее. Большую часть дня она проводила в своей полутемной комнатке вместе с Любой, сильно привязавшейся к ней. Бедная Любочка была слабенькая, нервная, болезненная девочка. Она боялась всего и всех в доме, никогда не играла с другими детьми и была в высшей степени рада, что ей можно спокойно сидеть подле Маши, перебирая свои тряпочки и не слыша ни криков, ни брани. Самыми приятными часами для Маши были теперь те часы, когда к мальчикам приходил учитель, а она являлась со своими книжками в комнату Анны Михайловны под предлогом занятий с ней. На самом деле Анна Михайловна ничему не учила, да и не могла учить ее. Она сама получила очень плохое образование и давно перезабыла почти все, чему училась в детстве. По приказанию Григория Матвеевича она каждое утро давала детям уроки французского языка, но уроки эти были мучением для учительницы и не приносили никакой пользы ученикам. Анна Михайловна решительно не умела преподавать, и даже Маша и Федя, привыкшие у матери заниматься очень прилежно, не могли у нее ничему научиться; Володя же и Лева проводили все время урока в ссорах, драках или пустых разговорах. Иногда для водворения порядка являлась в комнату Глафира Петровна; она наказывала Леву, уводила к себе Володю и делала Анне Михайловне колкие замечания, приводившие в слезы бедную женщину. Занятия с Машей пошли иначе. Обыкновенно девочка для виду раскладывала свои книги и тетради на столе, а сама усаживалась на маленькой скамеечке у ног тетки и читала ей что-нибудь из своих старых книг или просто разговаривала с нею. Маша рассказывала о своей прежней жизни, о матери, о петербургских знакомых, Анна Михайловна слушала ее с самым участливым вниманием и в свою очередь рассказывала ей о своем детстве, о том богатом доме, где она жила с отцом, обожавшим свою единственную дочь, о том беспомощном положении, в каком она осталась после смерти отца, и о том, как Григорий Матвеевич уговорил ее сделаться его женой, обещая любить и баловать ее не меньше отца, о том, как грустно и тяжело ей жить теперь и как ей хотелось бы поскорей умереть. Слушая ее тихие, грустные речи, Маша сама часто плакала и, прижимая к губам бледные, исхудалые руки бедной женщины, чувствовала к ней невыразимую жалость. Ей горячо хотелось хоть чем-нибудь облегчить неприятное положение тетки, она готова была за нее вступить в борьбу и с дядей, и с Глафирой Петровной, и со всеми в доме, но Анна Михайловна убедительно просила ее не заступаться за себя, доказывая, что этим она еще больше испортит дело, и девочка скрепя сердце молчала, хотя глаза ее гневно блистали при всякой грубой выходке Григория Матвеевича, при всякой колкости Глафиры Петровны. Не имея возможности заступаться за тетку. Маша старалась выказывать ей свое внимание разными мелкими услугами, к которым бедная женщина вовсе не привыкла. При входе в комнату Анны Михайловны она спешила подать ей стул, она бросалась поднимать те вещи, которые та нечаянно роняла, она следила за ней глазами и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы избавить ее от труда и предупредить ее желания.