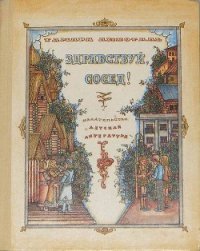Не сказка про белых гусей - Лихоталь Тамара Васильевна (онлайн книга без .txt) 📗
Когда нас принимали в пионеры, приехавший к нам в школу инструктор райкома комсомола сказал:
— Встаньте те, у кого отцы коммунисты.
Я встала первой, потому что мой батька — коммунист.
Один за другим поднялось еще несколько ребят. А Валюха, несмело протянув руку, тихо спросила:
— А мне можно встать? У меня нет отца. У меня брат — комсомолец.
Инструктор, длиннорукий худой парень, с хрипотцой в голосе от недосыпания и выступлений, внимательно посмотрел на нее и кивнул головой:
— Встань!
И так мы стояли рядом — я, и Валюха, и Сережка Крайнов, и другие ребята, по-военному вытянув руки. И притихший класс смотрел на нас, словно видел впервые.
В пионеры приняли не всех, а, как у нас говорили, самых сознательных. В чем заключалась эта сознательность, объяснить непросто. Она не определялась успеваемостью. «Уды» и «вуды», выведенные учителями, еще ни о чем не говорили. Не определялась она ни талантом, ни успехом. Но мы безошибочно знали: кто сознательный, а кто — нет.
По утрам, собираясь в школу, я на краешке стола старательно глажу утюгом галстук. Вообще-то я не очень слежу за своими нарядами. Мама ищет для меня на толкучке зимнее пальтишко, из старого перешивает мне платье. Я нетерпеливо стою, пока она с булавками во рту меряет на мне обновку. Ну, не все ли равно, где будет складка — спереди, сзади или сбоку? Мне это решительно безразлично. И какой воротничок у платья — тоже все равно. Я даже горжусь немного этим. Не в нарядах главное!
У нас в школе мальчишки ходят, заломив козырьки кепок на затылки, и в ушанках с оборванными завязками. Я тоже никогда не завязываю ушанку, и тесемки болтаются на ветру, когда я бегу в школу. Мама связала мне шапочку, распустив свой старый платок и терпеливо скрутив рвущиеся нитки. Но я не стала носить ее. Упросила купить мне ушанку.
— Так это же для мальчика, а ты — девочка, — говорила мама.
— Это раньше была разница — мальчик или девочка, а теперь все равно кто. У нас ведь равноправие.
— Ну ладно, — сдалась мама, — в ушанке все-таки потеплее. Шапчонка — что — продует ее ветром, а ты вон целый день мотаешься где-то, — и купила мне ушанку с кроличьим мехом на лбу.
Зная мое отношение к нарядам, мама удивляется, что я старательно наглаживаю галстук. Но то наряды, а это — совсем другое. Галстуки пока имеются совсем у немногих ребят. Это раз. И все в школе смотрят на нас. К тому же — я об этом не говорю маме, — за галстук могут и по шее дать. Вон как избили какие-то хулиганы Сережку Крайнова. Но Сережка, конечно, не снял галстук, и никто из нас никогда его не снимет, даже если нас убьют.
Я надеваю на шею алый треугольник, еще хранящий тепло утюга. А может, он просто такой теплый. Ведь в нем кровь тех, кто погиб за то, чтобы нам жилось хорошо и счастливо.
Мы и вправду так живем. Мы не всегда сыты. Нет мяса, масла, сахару. Нет… Впрочем, легче, пожалуй, перечислить то, что есть. Но мы не какие-нибудь нытики, как сказал Сережка Крайнов. Да к тому же все это у нас будет — и хлеб, и сахар. Вон уже идут эшелоны зерна по Турксибу. Все будет! Впереди у нас — вечность. И нам жить при коммунизме. Ведь его и строят для нас. И мы тоже хотим строить коммунизм, а не только просто жить при нем. И так без нас произошла революция, без нас отгремела гражданская. Пусть и нам хоть что-нибудь останется.
Я завязываю узел галстука, как учили нас, и вдруг перехватываю взгляд отца. Он недавно возвратился с ночной смены. Помылся под умывальником и теперь чистый сидит за столом, жует и читает газету. Первую страницу прочитал, развернул газету во весь лист, а потом — опять перегнул, сложил домиком и прислонил к чайнику. И теперь струйки пара маленькими облачками плывут над газетным домиком. А он из-за газеты — одним глазом. Он так умеет — мой батька. Глянет и хмыкнет. Но сейчас он не хмыкает. Смотрит серьезно, будто впервые увидел. Я отворачиваюсь. Не в наших обычаях говорить лишние слова. Мы и так понимаем друг друга.
Прибегу из школы. На столе, покрытом голубенькой, в чернильных разводах клеенкой, уже стоит тарелка. Мама несет от печки кастрюлю, придерживая тряпкой гнутую крышку. Обжигаясь, проглатываю суп. Мама только ахает: «Да поешь ты, как надо!»
— Некогда! Завтра общество Осоавиахим. А в бригаде мне поручено доложить о том, как из обезьяны произошел человек. А еще стенгазета. Нас выбрали в редколлегию — меня и Валюху.
— О господи, — вздохнет мама. — Совсем от дому отбилась.
— А Зойка наша танцует, — испуганно понизив голос, сообщает Нюрка, когда я прихожу к Вале. Волосы у нее уже отросли и теперь не торчат в разные стороны, а свисают двумя косицами. И из-под длинного когда-то платья выглядывают шарики коленок. А сама Нюрка стала еще умней. — Она знаешь как танцует? — говорит Нюрка, скосив глаза в сторону кухни. — Она фокстрок танцует. Мама сказала — все косы ей выдерет.
— Не фокстрок, а фокстрот, — поправляет Валя. Но это все равно. Потому что танцевать фокстрот — это… — Мы с Валюхой молча переглядываемся и тоже косимся на кухонную дверь, где притаилась Зойка. Мы вообще презираем танцы. Шаркать ногами — ума не надо.
Мы с Валей садимся за уроки. Решаем задачки, потом принимаемся писать заметку для стенгазеты. Скоро восьмое марта — Международный женский день, и мы пишем в своей заметке, какие несчастные были женщины в старое время при царе. А теперь всем открыта дорога — работай, учись на кого хочешь. Есть женщины-трактористки, есть летчицы. Хоть водолазом можешь стать. Валюха, правда, немного сомневается.
— А водолазы есть? — спрашивает она, отрываясь от заметки, которую старательно переписывает своим красивым почерком, и смотрит на меня.
— Ну конечно есть, — уверенно говорю я. В самом деле, не может же быть, чтобы не было женщин-водолазов. И успокоенная Валюха снова склоняется над газетой и аккуратно выводит «и водолазы». Подумать только! Можно учиться, на трактористку, на летчицу, на водолаза, а человек вместо этого учится танцевать какой-то фокстрот! Надо дать Зойке прочитать нашу заметку. Да, впрочем, она уже и так знает, потому что мы с Валей, прежде чем написать, громко говорим все вслух, а кухня, где сидит Зойка, — рядом. Мы себе представляем — сидит сейчас бедная Зойка и думает: «Что же это я делаю? Зачем только я этот несчастный фокстрот танцевала!»
Мы еще все сидим над стенгазетой, потому что надо не только заметку написать, но и нарисовать что-нибудь. Хорошо бы, конечно, эту самую трактористку, летчицу и водолаза, но у нас это не получится. Рисовать ни я, ни Валюха, к сожалению, не умеем. Мы сидим и раздумываем, что бы нам все-таки нарисовать, и даже не замечаем Зойку.
— Все сидите, дурочки? — раздается вдруг над нами Зойкин голос, и сама Зойка в наглаженной кофточке, с ленточкой в русых волосах, стоит и смеется, сверкая ровными меленькими зубами. Она еще немного крутится возле старенького затуманенного зеркальца, висящего в углу, снимает ленточку, расчесывает гребенкой волосы и надевает берет. Валюха неодобрительно смотрит на сестру. Нюрка говорит:
— Я маме скажу!
Но Зойка — ноль внимания. Набрасывает жакетку и уходит. Слышно, как ее каблуки стучат по лестнице, когда она спускается с галерейки.