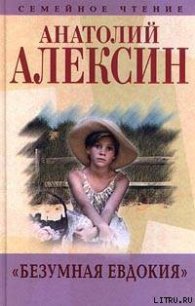Ночной обыск - Алексин Анатолий Георгиевич (читаем книги txt) 📗
До окончания школы было тогда далеко, но я уверенно ответила:
— Не передумала.
— Ты права: в медицинском лучше всего заниматься самой медициной. — Он, наверное, намекнул на маму, которая в медицинском институте занималась историей партии. — Вот и потренируйся на Ларисе, — посоветовал мне отец. — Представь себе, что у нее, допустим, аппендицит. Сделай операцию, спаси ее!.. Тогда она и станет тебе дорога. Мы ценим тех, кому помогаем. Обратной закономерности, к сожалению, нет… Но врачи ведь вызволяют из несчастий не ради благодарности. Так что спаси ее!
Через несколько дней я и правда вспорола Ларисе живот, мысленно удалила аппендикс, а потом все зашила. Это понравилось мне: все-таки обрела власть если не над самой Ларисой, то уж, во всяком случае, над ее здоровьем. «Еще что-нибудь ей удалю! — задумала я. — А потом будут осложнения… И она станет смотреть на меня с мольбой и надеждой, как на спасительницу. Но почему отец так заботился о наших с ней отношениях? — недоумевала я. — Неужели в такое время ему до моих игрушек?..»
— Что это ты сегодня не посадил в машину Надю с пятого этажа? — спросила у отца мама.
— Она сама не подошла к машине.
— А ты знаешь, почему она не подошла?
— Сейчас догадываюсь… А сразу не сообразил. Прости меня.
— Она пусть простит… Усаживай ее рядом с собой. Вместо Тани! Какая ей разница, где сидеть? Завтра же утром усади Надю на переднее место. Не забудешь?
Мама строго звала меня Таней, даже этим как бы воспитывая и подтягивая. А отец звал Танюшей.
— Ты все продумала? Это не будет выглядеть… вызовом? — выверяя свои опасения, спросил отец.
— Вызовом кому? Тем, которые делают вид, что жестокостью утверждают добро?
— Эти самые «те» пока еще обладают правом незваными приходить по ночам. И сутками рыться в чужих вещах, письмах… в чужих жизнях.
— Испугался?.. Вот этого они и добиваются! — вспыхнув и сделавшись вызывающе красивой, воскликнула мама. — Породить ужас и всех им сковать. Но со мной у них ничего не получится.
— Хорошо… Про Надю я не забуду. Можешь не волноваться.
— Хочу, чтоб и вы с Таней волновались по таким поводам!
— Обещаю тебе волноваться… Пока, как говорил мой дальний, заброшенный родственник. Теперь и в самом деле заброшенный судьбой неизвестно куда!
«Пока…» Холодея, я поняла, что имел в виду отец.
И одновременно (в который уж раз!) убедилась, что мама была не просто храбрее нас, а была безогляднее: никакие опасности не заставляли ее отступиться. Теперь вот от Нади с пятого этажа, отца которой уже официально в газетах объявили врагом народа. Я знала этого деликатного человека, который здоровался со мной столько раз в день, сколько встречался. Слово «враг» не могло иметь к нему отношения. Но кому-то понадобилось, чтобы имело… «Зачем?!» — терзала я себя безысходным недоумением с того утра, когда, оглядываясь по сторонам, мне сообщили, что ночью «взяли с пятого этажа».
Надя заняла мое место между отцом и шофером. Это не уменьшило ее горя, но немного облегчило нашу совесть.
После ареста старичка-химика, выражавшего уверенность, что просто так никого за решетку бросить не могут, нарком и комкор перестали бывать в нашем доме.
— Боятся, чтобы их не объявили создателями вражеского центра со штабом в этой квартире?
Мама задала отцу вопрос, не требующий ответа. Но он все же ответил:
— Что касается наркома, то он так занят, как никогда.
— Еще бы: половину наркомата пересажали, приходится потеть за всех выбывших.
— Он и раньше потел с утра до утра. А ты… если не жалеешь себя, то хоть пожалей Танюшу.
Мама неожиданно, что с нею случалось, обмякла. Но так явно и обессиленно, как прежде не бывало…
— Если и можно наступать себе на горло, то ради детей. Я учту твою просьбу.
Мама сникла… Причиной того были не одни лишь застенчивые отцовские просьбы: семь квартир в нашем доме не только посетили ночью, без приглашения, но и замуровали сургучными печатями. Попасть под такие печати было страшней, чем под любую бомбежку: там хоть родные люди страдали вместе, а печать означала, что родные разлучены, быть может, никогда не увидят друг друга… и никогда друг о друге ничего не узнают.
— А ответ от товарища Сталина еще не пришел, — с ироничной безнадежностью отметил отец. — Я думаю, ответы, когда они им написаны, доходят мгновенно.
— Разбираются… выясняют, — ответила мама. — Если он получил!
— Как ты говоришь, «кому-то» удобнее не выяснять.
— Это заговор против партии… Против ее истории! — закричала мама, которая эту историю преподавала. — Наш долг — раскрыть глаза…
— Ему? Он же всевидящий!
«Сегодня весело живется, а завтра будет веселей!» — пели по радио.
— Еще веселей? — спросил неизвестно у кого, завтракая на кухне, отец. Заметив меня, он спохватился: — В цирке мы с тобой в воскресенье были. Следующее воскресенье — Большой театр… Пойдем на «Щелкунчика»! Разве не весело? А прямо из театра можем отправиться на международный футбольный матч! Хочешь?
Отец не был спортивным болельщиком. Он «болел» за меня. Ему хотелось без конца доставлять мне какие-нибудь радости. От его предложений развлекаться я каждый раз вздрагивала.
Раньше наш дом считался привилегированным. Теперь он пользовался лишь одной привилегией: по ночам его навещали гораздо чаще, чем другие дома переулка.
На лицах соседей я читала: «Кто следующий?»
Героем дня в доме чувствовал себя только дворник, верткий человечек, непрестанно двигавшийся, мне казалось, для того, чтобы не дать никому себя разглядеть. Но я все же разглядела его выступавшие вперед хищно обнажавшиеся зубы. Раньше дворника собирались уволить — он содержал двор в той неопрятности, в какой содержал и себя самого: то не убирал мусор, то не счищал снег, то не скалывал лед.
— Переломаем из-за него ноги и руки! — ворчали жильцы. Но теперь ворчать перестали, потому что он мог переломать их судьбы.
Встречаясь с ним, одни заискивали, другие почтительно раскланивались: по ночам он был понятым — и, помогая копаться в чужих квартирах и жизнях, мог давать этим жизням оценки, которые, как сам он горделиво сообщал, «вносились в протоколы дознаний». От бессонных ночей у него появились зловещие круги под глазами. Родом он был из-под Смоленска и летом сорок первого, скрывшись там от военкоматовских повесток, стал полицаем. Опыт ему пригодился.
Он первый во дворе сладострастно оповестил маму:
— А дружка-то вашего с тремя ромбами взяли.
— Откуда вам известно?
— Мне все известно. Про всех! Частенько этот… с ромбами вас навещал. И все вечерами! Все вечерами… — Чистить двор он не умел, но пачкать человеческие биографии обожал. — Говорят, и ордена-то украл. С убитых сымал и на себя вешал. В Гражданскую! Еще тогда продался.
— И что ты ему ответила? — с едва осязаемой дрожью в голосе поинтересовался отец.
— Сказала: «Вы клевещете!»
— А он?
— По-моему, не понял. Ну, не знает, как называется то, что он делает.
— Хорошо… если так.
— Вспомнила… По пути в домоуправление приостановился и, обернувшись, изрек: «Партейных-то в нашем доме почти не осталось». Нечистая сила!
— Стало быть, все понял. И пригрозил.
— Боишься? — впрямую спросила мама, часто обвинявшая людей в трусости.
— Боюсь, — впрямую ответил отец.
Но какая-то была в его ответе двусмысленность, недоговоренность. Мне почудилось, для того чтобы спрятать их, отец торопливо добавил:
— Ты же мне обещала?
— Что?
— Наступать на горло. Ради Танюши.
— Прости, не сдержалась.
— А если и он не сдержится?
— Ты-то сам сдерживаться умеешь… — с непривычно робким укором (если уж она укоряла, то в открытую!) и тоже каким-то вторым, загадочным смыслом сказала мама. — Возвращаешься под самое утро, а спать не ложишься. Вот уже двадцать три дня так… Я подсчитала. Бродишь по квартире, заходишь ко мне… что-то хочешь сказать, но не решаешься. Объясняешь, что бродить тебе полезней, чем спать.