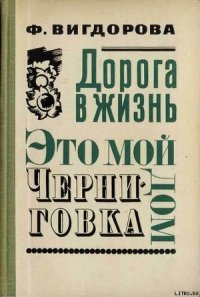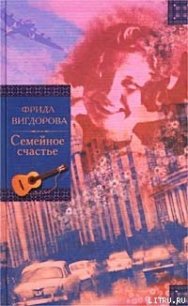Дорога в жизнь - Вигдорова Фрида Абрамовна (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Теперь Нарышкин понимает, что проговорился. И жалеет об этом. И в то же время чувствует: это хорошо, что он сказал. Он не очень разбирается, что к чему, но ведь ясно: ребята смягчились. Ему не то что прощено, а вот стало легче дышать и уже не страшно. Он уже не цепляется лихорадочно за Галю и Екатерину Ивановну, боясь остаться один. Он лежит, чаще всего повернувшись лицом к стене, молчит, думает.
Вечером, после отбоя, когда весь дом затихает и только ребята из сторожевого отряда ходят по полутемным коридорам и изредка приглушенно перекликаются между собой во дворе и парке, учителя собираются в моем кабинете.
Мы собираемся постоянно хоть ненадолго – рассказать друг другу, как прошел день, подвести итоги: что было трудно, не зацепилась ли чья мысль за что-нибудь важное, о чем мы забывали, чего не замечали прежде.
– Вот и кончилась эпопея с горном, – говорит Екатерина Ивановна, перебирая тетради.
– Счастливый конец. И Король молодчина – с честью выдержал испытание, – откликается Софья Михайловна.
– Королев молодец, – задумчиво говорит Владимир Михайлович. – Очень мне по душе этот юноша.
– А как у этого юноши с арифметикой? – спрашивает Екатерина Ивановна.
– Он умеет думать. Это самое главное.
– Мне кажется, он думает рывками, – возражает Екатерина Ивановна. – Как бы это сказать… он не умеет додумывать, останавливается на полдороге. Так бывало не раз: начнет задачу верно, логично, а где-то посередине застопорит – и конец!
– И так бывает. Но это дело времени. Способности есть – и навык придет, выработается дисциплина ума. Вообще в пятой группе много способных детей… хотя они и попали в дом для трудных, – не без юмора заканчивает Владимир Михайлович.
– И считались дефективными, – уже совсем ехидно говорит Алексей Саввич, человек добродушный и серьезный, которого я всегда считал начисто неспособным к ехидству.
– Вот именно – дефективные! – усмехается Владимир Михайлович. – Вы знаете, у Репина, например, просто математическая голова. Он превосходно думает и, как ни странно, не растерял за эти годы своих знаний.
– Репин… да-да… Вот кто беспокоит меня больше всех, – говорит Алексей Саввич, помешивая угли в печке.
– Больше всех, – соглашается Софья Михайловна. – Он, Колышкин и весь их отряд. Я уже не первый раз говорю об этом. Боюсь, мы непростительно затянули с этим, Семен Афанасьевич. Их надо разъединить. Перевести Репина или всех их распределить по другим отрядам.
– Простите, я еще плохо знаю ребят, – вмешивается Николай Иванович, – но к кому переведешь Репина? Он всюду станет хозяином, мне кажется.
– Да, конечно, натура властная, – соглашается Владимир Михайлович.
– О, не скажите! – смеется Алексей Саввич. – Посмотрел бы я, как бы он властвовал у Подсолнушкина или у Стеклова. Но у Стеклова малы ребята, там ему, пожалуй, не место.
– Значит, переводить? – спрашиваю я.
Впервые я задаю этот вопрос вслух, но давно уже он сидит гвоздем у меня в голове.
– Переводить, Семен Афанасьевич, – отвечает за всех Екатерина Ивановна. – Я давно наблюдаю Колышкина. Он без Репина совсем другой. Он чувствует себя по-другому. Вот давайте я вам прочитаю.
Она роется в тетрадках. Мы с любопытством ждем. Екатерина Ивановна во вторую смену занимается в школе с третьей группой, где учится Колышкин, – у нее есть возможность наблюдать.
У Екатерины Ивановны в руках листок. Даже издали видно, сколько на нем клякс.
– Вот, – говорит она, – Колышкин вчера написал сочинение. Ну, конечно, безграмотное. Беспомощное, конечно. Ни единой запятой. Строго говоря, это еще никакое не сочинение. Но суть не в этом. Вот послушайте.
Алексей Саввич оставляет печку. Николай Иванович придвигается поближе со своим стулом. Галя подперла щеки ладонями и не мигая смотрит на Екатерину Ивановну. А та читает неторопливо, выразительно, словно красным карандашом расставляя в воздухе еще неподвластные Колышкину запятые:
– «Как мы собирали грибы.
Мы встали рано и пошли. Я тут знаю все грибные места. Белых, ясно, нет, зато подберезовые и подосиновики. Еще пошел один наш, кто – не скажу. Он пошел один, а как я подошел, он кричит: «Не лезь, тут мое место!» Я ушел и набрал больше, хоть я места всем показывал, никому не жалел. Мы принесли много. Антонина Григорьевна нажарила на обед. А ему сказала: «Эх, ты, половина поганки».
Екатерина Ивановна умолкает. Мы смеемся, но она произносит серьезно:
– А все-таки хорошее сочинение.
– В мальчике что-то есть. Я тоже давно к нему приглядываюсь, – говорит Алексей Саввич. – Не так это просто, как кажется. Начинаешь с ним говорить – отвечает не прямо, уклончиво. Словно боится сказать лишнее. По-моему, Семен Афанасьевич, дальше предоставлять их самим себе мы не имеем права. Тут надо хорошенько подумать.
…Провожаю Владимира Михайловича и возвращаюсь, шлепая по расквашенной дождями дороге. Вот и домик Антонины Григорьевны. Окно Екатерины Ивановны еще светится. Подхожу поближе. Оно открыто, хоть вечер и холодный, осенний. Екатерина Ивановна сидит за столом, мне хорошо видно ее внимательное, наклоненное над тетрадкой лицо, освещенное лампой.
– Что полуночничаете? – спрашиваю я. – Спать пора!
– Кто там? А, это вы, Семен Афанасьевич. Ну нет, мне еще долго не спать. Завтра буду объяснять разницу между «на столько больше» и «во столько больше» – это, знаете, очень трудно всегда.
– Спокойной вам ночи!
– Спасибо. И вам также.
Шагаю дальше. Вот уже и редкие, ночные огни нашего дома.
Который год преподает Екатерина Ивановна? Лет двадцать, кажется. Который раз она объясняет разницу между «на столько» и «во столько»? А вот сидит, готовится, точно к первому в жизни уроку…
49. ДАЛЬШЕ – ТРУДНЕЕ
Странное дело. Около десяти месяцев прошло с тех пор, как я приехал сюда. В первые месяцы мы, воспитатели, жили в постоянном напряжении умственных и душевных сил. Перед нами был разваленный детский дом и так называемые трудновоспитуемые дети. Изо дня в день мы создавали новый, здоровый и разумный строй жизни – и неправдоподобно быстро дети стали приходить в нормальное состояние. Да, на первых порах меня прямо пугала быстрота и легкость, с какой ребята принимали нормальный душевный облик. Я не доверял первым признакам дисциплины, уравновешенности. Недоверчиво присматривался к товарищескому поступку, к «мы» вместо «я». Когда в доме перестали пропадать вещи, я ждал, что вот-вот услышу о новой пропаже, новой драке, новом побеге. Но наконец я снова – в который раз! – убедился, что человек, поставленный в человеческие условия, и ведет себя естественно, а естественно – это значит: как человек, а не как животное.
Если уважать человека и требовать с него, если постоянно видеть в человеке человеческое и всем строем жизни, каждым днем и часом растить в нем именно человеческое, это не замедлит принести плоды.
В колонии имени Горького, в Куряже, позднее в коммуне имени Дзержинского Антону Семеновичу приходилось, конечно, класть немало труда, времени и сил, чтобы покончить с разными, как говорили тогда, «отрыжками прошлого», но это уже были только последние отголоски старых привычек, не находившие почвы и поддержки в слаженной, целеустремленной жизни коллектива. И ведь это было годы назад, да и материал у Антона Семеновича был куда труднее и неподатливее – парни по шестнадцати, по восемнадцати лет, с солидным уличным, а то и уголовным прошлым.
А у меня тут дети: старшим мальчикам по четырнадцати лет – это просто сироты, дети, лишенные семьи. Не все и беспризорничали по-настоящему, а если кто провел на улице год-два, это уже большой стаж. И ни одного Семена Карабана, каким был я в 1920 году, а ведь со мной и другими первыми горьковцами Антону Семеновичу приходилось, ой, как нелегко! Многие попали в Березовую поляну, в наш дом для трудных, по милости педологов, которые с необычайной легкостью могли объявить ребенка или подростка умственно отсталым, недоразвитым, дефективным. Но подавляющее большинство из этих «отсталых» и «дефективных» на поверку оказывались обыкновенными детьми, может быть только более нервными, как Коршунов, например, или более разболтанными, хлебнувшими беспризорщины, как Глебов. И поэтому, конечно, мне было с ними во сто крат легче, чем когда-то Антону Семеновичу с нами.