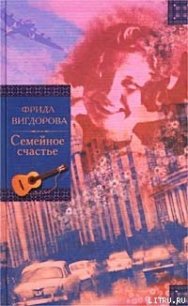Это мой дом - Вигдорова Фрида Абрамовна (читать книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Борис Тамарин – наш новичок, тот самый, что пришел к нам с письмом Антона Семеновича, – давно обжился в Черешенках. Нам кажется, что он весь век был с нами. У него пытливые глаза, дотошный нрав и вечное присловье: «Не люблю, когда скучно!» Он мне – не только последний привет от Антона Семеновича. Он пришел ко мне в трудный мой час и своим приходом как бы сказал: жизнь продолжается!
Осенью тридцать девятого года, развернув «Учительскую газету», я увидел большую, на всю страницу, статью о работе Антона Семеновича, о его опыте, мыслях, находках, о том, что эти мысли настойчиво стучатся в дверь нашей школы. А в конце – примечание: редакция предлагает всем желающим высказаться – можно ли использовать в обычной школе педагогическое наследство А. С. Макаренко?
Еду в Киев – там тоже идет дискуссия: «Учительская газета» заставила людей заново осмыслить все, что сделано, сравнить свою работу с работой товарищей.
В большом зале полно народу, на трибуне – полная немолодая женщина. Она говорит и плавно, и вместе с тем напористо: кажется, человек пытается отдаться раздумью, но привычка приказывать, руководить, давать указания берет верх.
Я давно ее не видел, но узнал тотчас же. Это – Брегель! Та самая Брегель, которая приклеила к работе Антона Семеновича ярлык «командирская педагогика». Человек, который преследовал Антона Семеновича на каждом шагу, упорно не желал замечать ни преображенных детей, ни великолепного хозяйства и всячески придирался к мелочам, будь то горн, или салют, или традиция, которую мы любили, – отвечать «есть», когда поручение выполнено. Брегель говорила с Антоном Семеновичем не иначе как свысока, уничтожающе-ироническим тоном. Ничто не доходило до нее, ничто не могло ее убедить – даже грязный зловонный Куряж, на ее глазах превратившийся в великолепный, трудолюбивый и радостный ребячий коллектив.
Что же она говорит сейчас, Брегель? Слушаю и не верю ушам:
– Несомненно, товарищи, Макаренко – замечательный советский педагог и новатор. Я хорошо знаю работу товарища Макаренко, я наблюдала ее на протяжении многих лет. Смелая, новаторская работа, товарищи. Многим нашим товарищам есть чему поучиться у Макаренко. Но, товарищи, этот опыт во многом специфичен и не может быть в своем чистом виде перенесен в нашу школу. Это ничуть не умаляет значения того факта, что Макаренко – талантливый педагог, талантливый практик, у которого многим нашим товарищам надо поучиться…
Я слушаю ее и думаю: у Антона Семеновича были враги – педологи, и враг этот был понятен и очевиден. А сейчас у школы и учителя другие враги, в них трудней разобраться, они очень разные. Но и у них есть отличительный признак – по нему я всегда узнаю и Кляпа, и Шаповала, и прочих, как бы они ни отличались друг от друга. Признак этот – мертвечина. Недаром такими заумными, мертвыми словами говорят они о самом живом – о детях. Все есть в их педагогике: высокие слова, цитаты, ссылки на авторитеты, инструкции, постановления. Одного нет в их педагогике: души, детей. Она бездушная, эта педагогика, бездушная и бездетная.
Брегель говорит долго, нравоучительно, властно и вместе с тем осторожно. И я понимаю: если такие люди, как Брегель, люто ненавидящие все, что делал Антон Семенович, уже не смеют сказать об этом прямо, значит, даже им ясно, что все, кому дороги школа и дети, назвали опыт и мысль Антона Семеновича своими, и, значит, борьба продолжается!
Меня вызвали в Наркомпрос Украины. Я шел по длинному полутемному коридору, и вдруг откуда-то выскочила девчонка лет одиннадцати. Я не успел разглядеть ее, мелькнули только лукавые, острые глазки. Она вынырнула передо мной, крикнула, дразнясь: «Цыган!» – и исчезла так же неожиданно, как появилась. Догонять ее, отыскивать – недосуг, а очень хотелось! Но я спешил, надо было освободиться поскорее, чтобы попасть к вечернему поезду на Черешенки.
Вызвала меня Брегель. Когда я вошел, она бегло посмотрела в мою сторону, уронила:
– Садитесь, – и углубилась в какие-то бумаги.
Я молча ждал. Прошло минут десять,
– Я был вам нужен? – спросил я.
– Да, – сухо ответила она.
– Я слушаю вас.
Она вскинула голову, и я вспомнил, как Антон Семенович, говорил, что у нее осанка, точно у памятника Екатерине Второй.
– Что это за тон, то-ва-рищ Карабанов? – отчеканила она гневно. – Это я вас слушаю! Я вас вызвала для того, чтобы вы объяснили ваше поведение.
– Не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
– Привычку командовать надо оставить, то-ва-рищ Карабанов! Я вижу, что слухи о вашем самомнении не преувеличены. Я вызвала вас для того, чтобы сказать: неприлично директору детдома заниматься саморекламой! Я то и дело слышу о каких-то ваших фокусах и экспериментах, вы вульгаризируете идеи товарища Макаренко!
Вот уж подлинно: век живи, век учись! Что же я знаю о человеческой природе, если меня так изумляют ее слова? В первую минуту я даже не испытываю ни гнева, ни возмущения, я просто едва верю своим ушам: она, Брегель, будет защищать от меня имя и мысль Антона Семеновича?!
– Вы упускаете из виду одно, – говорю я, – Антона Семеновича больше нет. Но у меня хорошая память, и я все помню. Я помню каждый ваш приезд в колонию и все, что вы говорили тогда.
– Не запугаете, то-ва-рищ Карабанов! Клеветать и выдумывать может всякий. А вот ваше поведение, ваши поступки – это уже не плод больного воображения. Товарищ Кляп доложил мне…
И вот тут я делаю непозволительную глупость. При этом имени я встаю и, не прощаясь, покидаю кабинет Брегель. Я знаю, как оно аукнется и откликнется, но я не хочу больше участвовать в этой схватке с бесчестным противником и не хочу слышать, что еще придумал товарищ Кляп.
Иду по коридору, стиснув зубы, и злюсь на себя. Ненадолго же хватило моей невозмутимости. Но Брегель, Брегель! И чем она мне грозит, в чем обвиняет? Я – клеветник? У меня больное воображение? Забыла она, что ли, что Антон Семенович сам обвинил ее в своей «Поэме»? Пусть не поверят мне. Но ему?
И вдруг кто-то дергает меня за рукав, и я снова слышу:
– Цыган!
Оборачиваюсь. Девчонка со всех ног удирает от меня и, еще два раза выкрикнув ехидным голосом: «Цыган! Цыган!» – скрывается за дверью в конце коридора.
– Ну нет! Не уйдешь!
Иду за ней, дергаю дверь – она заперта изнутри. Стою тихо, жду. Дверь чуть приоткрывается, в щелку виден кончик вздернутого носа, и дверь снова захлопывается.
Сажусь на подоконник, вынимаю из кармана книгу и хлеб с сыром. Теперь буду ждать хоть до вечера.
Время от времени девчонка выглядывает в щелку и прячется опять. Что ж, почитаю еще, бог с ним, с поездом.
Примерно через час к двери, за которой прячется моя незнакомка, подходит инспектор Наркомпроса по детским домам Легостаева.
– Товарищ Карабанов? Что вы тут делаете? – удивляется она и нажимает ручку двери. – Откройте! – говорит она требовательно.
– Не открою! – слышится в ответ.
– А, это ты, Водолагина. Отвори, это я!
За дверью молчание.
– Что это у вас за Водолагина такая? – спрашиваю я.
– О, это целая история. Не девчонка – наказание. Заморочила нас, никак не пристроим.
Неожиданно дверь отворяется. Девчонка выходит как ни в чем не бывало, маленькая, стриженая, курносая, становится поближе к Легостаевой и смотрит на меня дерзко и независимо.
– Ну что ты опять озорничаешь? – с упреком говорит Легостаева. – Непутевая ты, Тоня.
– А вот и путевая!
– Глафира Петровна, – говорю я, – отдайте ее к нам. Поедешь со мной, Тоня?
– А куда? – бесстрашно и с готовностью осведомляется Тоня.
– Есть такое место – Черешенки. Там детский дом. Поедем?
– Можно! – отвечает Тоня. – А там правда черешня растет?
– Растет. И черешня, и вишня, и яблоки.
– Намучаетесь с ней, Семен Афанасьевич, – предупреждает Глафира Петровна. – Берите, но помните: она такая озорница, что трех мальчишек стоит.
– Согласен, я таких люблю. Ну как, едем?