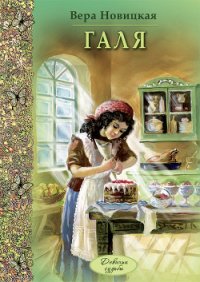Безмятежные годы (сборник) - Новицкая Вера Сергеевна (серии книг читать бесплатно .TXT) 📗
Годы шли. Из юноши он превратился в зрелого мужчину. Тоска одиночества, потребность душевной близости сильно заговорили в нем. Хотелось чего-нибудь родного, близкого, не столько блестящего и бурного, сколько согревающего, теплящегося ровным, мягким светом. Сердце искало привета, дружбы, а он был одинок, так страшно одинок!
Люди уже не так сочувственно начинали относиться к нему; порой среди слов соболезнования прорывались фразы, что он сам виноват в своем одиночестве: «Отчего не нагнуться к меньшим, не поискать между ними светлого ума, отзывчивого сердца?»
Одна малютка по-прежнему благоговейно взирала на него. Своей чуткой душой она понимала, что у Большого человека, с его умом и сердцем, должно быть и страдание неизмеримо глубокое и сильное. Все чаще пела она свои дивные песни. Какой яркой радостью загорались ее ясные глазки, когда бледная улыбка мелькала на устах великана, когда, опуская печальные взоры, он все дольше и пристальнее всматривался вниз, туда, откуда неслось чудесное умиротворяющее пение, только одно и приносившее ему отраду и утешение.
От постоянного напряженного вглядывания туман, словно мешавший ему раньше ясно видеть, становился светлее, тоньше; лица казались привлекательнее, люди не такими ничтожными. Но прежние недостижимые стремления, страстное влечение туда, в высь, снова овладевали его душой. Он забывал про виденное внизу, опять мечта его витала там, под темным сапфирным куполом, опять манила холодная луна, опять дразнили шаловливые звездочки. Сознание безнадежности и недоступности мечты истерзало его. Однажды, не осилив своего горя, с неодолимой тоской в душе, Большой человек, глухо зарыдав, со стоном рухнул на землю.
В ту же минуту две маленькие ручки нежным, теплым объятием обвились вокруг могучей шеи; мелодичный, ласковый голосок осыпал его словами любви, теплые слезинки скатились ему на руки. Точно в самую глубь одинокой души проникли они и согрели все его нравственно разбитое существо. Неиспытанное блаженство разлилось в его сердце.
Он отвел руки от лица и увидел стоящую перед ним малютку с ясными светящимися глазками. Они не дразнили, не манили, как звезды, но в них была вся ее душа, светлая душа чистой, беззаветно любящей женщины.
Сердце его настолько было переполнено светлым восторженным чувством, что он почти не ощущал страшной физической боли, вызванной падением.
Никогда больше не встал Большой человек на ноги, они оказались неизлечимо поврежденными при падении, но он не жалел о них, не сокрушался об утраченной высоте и мощи. Теперь он был почти равен со всеми; на своем уровне видел он столько ласковых, приветливых лиц, слышал вблизи сердечные, участливые речи, постоянно наслаждался попечениями и любовью своей крошки-жены, которая всю свою жизнь, все свое маленькое «я» посвятила служению Большому человеку.Ничто не нарушает его душевного равновесия. Обычной чередой проплывает над ним Ночная Царица со своей блестящей свитой. Ни одно горькое чувство не шевелится в душе этого человека; равнодушно смотрит он на сверкающий небесный хоровод как на нечто далекое-далекое, виденное когда-то во сне. Что же значит сон в сравнении со светлой, безмятежной действительностью, которая окружает его!..
Хорошо или нет? Мне кажется, это именно то, что я хотела выразить. А вдруг глупо? Вдруг он высмеет? Страшно боюсь. Прочитать бы кому-нибудь, но кому? Ученицам? Ни за что, ни одной не покажу, даже Вере, особенно ей, потому что, в сущности, это ее касается. Наконец я решаюсь отдаться на суд мамочки.
– Молодец, Муся, красиво и идейно.
После ее похвал я несколько храбрее вручаю Дмитрию Николаевичу свое сочинение. Ученицы просят прочитать, но я хитрю, как могу, обещаю сделать это, когда листочки будут возвращены. Лишь бы выиграть время, там отверчусь как-нибудь.
Уже неделя, как Вера не показывается в класс. Даже и писем нет от нее. Что с ней? Так бы хотелось проведать ее, но она просила не приходить. Наконец записочка, всего несколько слов:«Дорогая Муся, если можешь, загляни ко мне, я совсем лежу, нет сил подняться».
Конечно, в тот же день я отправляюсь к ней.
Долго бродила я по большому грязному двору, потом меня направили во второй, маленький дворик, куда-то в самую глубину его. Темная, холодная, сырая лестница; пахнет чадом, воздух тяжелый; под ногами то и дело шмыгают то серые, то рыжие кошки. Как-то жутко сделалось мне. Никогда в жизни еще не приходилось мне бродить по таким темным закоулкам. Вот № 32. Осторожно и несмело дергаю я за ручку звонка, висящего на косяке двери, на которой войлок торчит лохмотьями. Дверь, как-то робко, приоткрывается. Передо мной высокий, худощавый, слегка сгорбленный человек; лицо его почти красиво, только как-то особенно бледно и будто вздуто; большие серые глаза слишком бесцветны и тревожно бегают по сторонам.
– Могу я видеть Веру Смирнову? – спрашиваю я.
– Пожалуйста, заходите, она будет рада.
Он суетливо открывает дверь во всю ширину и впускает меня в маленькую, неприветливую, почти темную кухоньку, упирающуюся окном в глухую каменную стену.
– Я разденусь, чтобы не так прямо с холода к ней… – говорю я.
Человек кидается помогать мне, но руки его так трясутся, что он только мешает.
– Вот, Верочка, – говорит он, вводя меня в следующую и единственную, тоже мрачную, унылую комнатку, – к тебе тут пришли, так я пока уйду… чтобы не беспокоить.
Вид и голос у него такой робкий, растерянный, точно заискивающий.
У правой стены на узенькой кровати лежит Вера. Серые стены, сероватый полусвет, царящий в комнате, бросают какие-то серые тени на ее тонкое бледное лицо.
– Вот спасибо, что пришла, – радостным, но совсем слабым голосом говорит она.
Я уже сижу на ее постели, крепко обнимаю ее.
– Ну, как же ты себя чувствуешь? Что, собственно, с тобой? Видел тебя доктор? – допытываюсь я.
– Да, вчера папа приводил доктора. Тот говорит, нужен полный отдых, сейчас же уехать куда-нибудь в горы или на юг. Так разве ж все это мыслимо?
– Но что именно он у тебя нашел?
– Общее истощение, сильное переутомление и небольшой катар легких. Говорит, что на свежем воздухе, при хорошем питании и полнейшем отдыхе, это скоро прошло бы.
– Ну, а здесь, если никуда не ехать, чем же тогда помочь? Дал он какое-нибудь лекарство?
– Да, пилюли вот и велел молоко с коньяком пить.
– И ты принимаешь?
– Пилюли – да.
– А молоко с коньяком?
– Буду и молоко пить, а коньяк… это неважно, пустяки.
«Ну, понятно, коньяк слишком дорого стоит», – соображаю я мысленно, но, конечно, ничего не говорю.
Мне тяжело на душе. Меня давит эта холодная сырая маленькая, почти пустая комнатка: два простых деревянных стула, этажерка, с аккуратно расставленными книгами – единственным сокровищем Веры, – стол перед окном и та короткая, узкая кровать, на которой под серым байковым одеялом лежит больная. Все это гнетет меня. Я отвечаю на вопросы Веры, рассказываю то, что интересует ее, но мне не говорится. Вера чувствует это.
– Что, Муся, тебе, верно, в первый раз в жизни приходится быть в такой обстановке? – спрашивает она.
Я не знаю, что ответить, и пробую протестовать:
– Нет, почему же?.. Что же тут особенного?
Вера грустно улыбается.
– Да и я не сразу привыкла, я ведь не всегда так жила. А теперь даже и не замечаю. Вот сейчас только потому обратила внимание, что ты пришла, я за тебя подумала, каково все это тебе казаться должно. А когда-то у нас была приличная квартирка, маленькая, но светлая, уютная, в доме было так отрадно, так дружно, отец и мать крепко любили друг друга, но… не стало мамы, и все изменилось…
Вера минуточку помолчала.
– Нет, раз уж ты здесь, пришла, все увидела, так я все и расскажу тебе. Ты добрая, чуткая, ты душой поймешь и взглянешь на дело именно так, как надо, – продолжала она. – Да, началось со смерти мамы. Отец служил тогда в управлении железной дороги, имел приличное место, жили мы мирно, тихо, душа в душу. Моя мать была еще совсем молодая, красивая, здоровая, всегда веселая женщина. Однажды она вышла из дому за покупками в одиннадцать часов утра, а в половине первого ее… уже мертвую, принесли домой: споткнулась, переходя улицу, попала под лошадь, и та ударила ее подковой прямо в висок… Смерть была мгновенная… С той минуты, как отлетела ее душа, смех, радость, даже душевный покой тоже навсегда отлетели из нашего дома. Отец чуть не помешался. Удар был слишком силен и неожидан. Про себя не говорю: в те печальные дни я выплакала, кажется, все свои слезы, с тех пор я и плакать разучилась. Едва потеряв мать, я дрожала за отца…