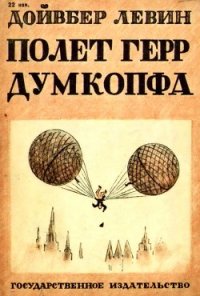Улица Сапожников - Левин Дойвбер (читать книги онлайн полностью без регистрации txt) 📗
Внизу, в подвале, две сестры-портнихи, Либе и Нэше, шили приданое богатым невестам местечка. Девушки сидели у окна, игла быстро мелькала в прозрачных пальцах. Сестры шили и тоненькими голосами ноли о милом, который уехал в далекую страну, в Америку, и забыл, и письма не шлет. Они пели и кашляли глухо, как старухи, а в подвале темно, сыро, что в колодце, и гнусно пахнет чем-то кислым, — клопами, что ли, — и по стенам пышно цветет плесень.
Над подвалом, в тесных комнатушках, жили сапожники, портные, шапочники, скорняки. В каждой такой клетушке — только стол да стул, да кровать о трех ногах с разбитой спинкой. На кровати — семья, девять душ, а за столом — десятый, отец-кормилец. Он проворно сучит дратву или кроит карман, а за спиной — пропади ты пропадом! — хнычет ребенок, верещит жена, и сосед угодливо встречает заказчика, а заказчик сердится, кричит: «Да что! да как! да я тебя!»
Выше, в третьем этаже, шесть человек ткачей выделывали полосатые молитвенные одеяния — талесы. Чтоб скоротать время, — с шести утра до восьми вечера, шутка ли, — ткачи, как и девушки-портнихи в подвале, пели. Но девушки пели тоненькими приятными голосами, ткачи же ревели, как быки. Умолкали они только тогда, когда появлялся хозяин Оре, могучий человек с могучей русой бородой по пояс.
А на самом верху, на чердаке, под крышей, умирала старуха-нищенка Мере, и потому-то наверху в ее каморке день и ночь горел огонь. Старуха лежит одна. Забежит на минуту соседка, крикнет: «Как, Мере? Жива — нет?» — и опять никого, одна. Старуха глядит на огонек, слышит, как гудит и стонет под ней дом, «Высокий курятник», и думает, что зря ее господь забыл, — прибрал бы он ее поскорей, и спасибо ему.
Ирмэ и Неах, повеселевшие, спокойные, шли домой. Они шли чинно, не спеша, руки за спину и говорили тоже не спеша, степенно.
— Нет, — говорил Ирмэ, — как хочешь, а сапожное дело, это — не то. Не то, не то, Неах. Сиди, как проклятый, за верстаком, спину ломай. А тут и мухи и клопы, и дитя пищит, и жена визжит. Не то. Конечно, самая беда — жена. Я уж, Неах, думаю, что, может, не жениться мне, а?..
— Глянь-ка, Ирмэ, — сказал Неах.
У «Высокого курятника», на улице сидела дурочка Файтл. Перед ней на земле лежали моток черных ниток и спицы. Но она не вязала. Она уныло глядела на моток и, поводя пальцем, говорила с ним как с человеком.
— Понимаешь ты, детка, — говорила она мотку, — сплю это я, сплю и вижу сон, будто стоит это покойный дед, дай ему бог здоровья, будто стоит это он, стоит, и будто вдруг бородой махнул. «Ой, говорю, дедка, чего это ты, говорю, бородой махнул?» А он, — Файтл всплеснула руками, — а он как заплачет, как заплачет. «Ой, говорит, внучка ты моя, Файтл, я же, говорит, вот сейчас, вот только что потерял копейку, копейку, копейку..» Ай-ай! — Файтл вдруг завыла.
Ирмэ подошел к Файтл и сказал:
— Ну-ну, — сказал он, — нечего. Вот она, твоя копейка, — и показал ей кукиш.
— Что? — сквозь слезы проговорила Файтл.
Но Ирмэ уже занялся другим. На пороге своей лавчонки — лавчонка была в клопиную нору, и товару в ней было едва на три пятиалтынных — сидел пригорюнившись лавочник Фишль, убогий человек, подслеповатый и глухой. Он был в валенках и в зимнем ватном пальто, хотя на улице было ясно и тепло. Фишль тупо глядел себе под ноги и молчал. Он сегодня наторговал на восемь копеек, а с этим как домой-то придешь? — семья голодная, а дома пусто. И вот он сидел и ждал, не придет ли покупатель. Но покупатель не шел. И Фишль ждал.
— Фишль! — крикнул Ирмэ, — я вам вроде полушку должен.
Фишль поднял голову, открыл рот и уставился на Ирмэ.
— Что тебе? — сказал он глухо.
— Так дайте мне на эту самую полушку орехов, Фишль! — крикнул Ирмэ.
Лавочник поморгал — он ничего не расслышал — и вдруг вздохнул.
— Oй, ребятки, худо, — сказал он и покачал головой. — Ой, как худо. — И опять ссутулился, сник.
— Пойдем, — тихо сказал Неах, — чего тут.
Дома не было никого. Только младший брат Эле спал одетый на голом диванчике у окна. Ирмэ сунул ему под голову подушку, мальчик пробормотал что-то невнятно и сердито, но не проснулся. В комнате было темно. Ирмэ вслепую пошарил по столу и нашел горбушку хлеба. Он взял хлеб и пошел опять на улицу. Веселей на улице.
Неподалеку на бревне сидели Меер, шапочник Симхе и шорник Нохем. Нохем был высокий и худой — черное морщинистое лицо, длинные тонкие усы. Они с Меером были однолетки, одногодки, но казался Нохем старше лет на десять по меньшей мере. Ирмэ его не любил: шумный человек, горлопан. Все трое курили. И о чем-то говорили, громко говорили, спорили будто.
«О чем это они?» подумал Ирмэ и, жуя свой, хлеб, подошел поближе послушать.
Когда Ирмэ подошел, говорил Симхе. Говорил он негромко и напевно, будто молитву читал.
— И всегда-то ты так, Нохем. — говорил он, — шумишь ты, брат, галдишь, а к чему, чего — и сам-то толком не знаешь. «Сторонись, народ, — воевода идет». А только помни, Нохем: все от бога. В святом писании сказано так…
— Что вы мне «писание»! — зло перебил Нохем. — Вот вам писание: человеку, — большим заскорузлым пальцем он ткнул себя в грудь. — человеку тридцать четыре, а за верстаком он уже двадцать три. Двадцать три года, как один день. А что наработал? Чахотку наработал. Вот те и писание…
— Опять ты свое. — Симхе укоризненно покачал головой. — Ну, работаешь. И еще двадцать лет проработаешь..
— Дудки, — буркнул Нохем. — Я хитрей, — околею.
— Уж это, Нохем, как знать, — сказал Симхе, — все под богом ходим. А я вот о чем: и еще двадцать проработаешь, и тоже будешь гол и наг. Я не двадцать, я, слава те, сорок лет работаю. А что я наработал? Все работают…
— Все? — Нохем наклонил голову, сощурился. — Так ли? Все ли? А Шер работает? А Казаков работает, а Файвелке Рашалл работает? Да уж, работничек, сгори он.
— Взял! — сказал Симхе. — Взял Файвела! Он богатый, что на него смотреть. У него и так-то много. Ему бог дал.
— «Бог дал» — тьфу! — Нохем плюнул и закашлялся. Кашлял он долго, с сипом, с хрипом. Откашлявшись, отдышавшись, он заговорил опять, но глуше, тише: — «Бог дал»! Да откуда он взял-то, бог-то? Из жилетного кармана выложил, что ли? Или на банк поревел тысяч пятьдесят? Знаем мы, как он даст. Слыхали! Обдерут нас, дураков, а там: «Мы что! Нам бог дал». А нам-то чего он не дает? Мы-то, голь-то, у него на особом счету, что ли? А то, может, список потерялся. Свистнули, может, списочек-то.
— Не богохульствуй, Нохем, — строго сказал старик. — Потому-то он тебе и не дает, что ты богохульник и крикун.
— Так. — Нохем вдруг захохотал. — Так. Богохульник — потому и не дает. Верно. Правильно. Понимаю. Ну, а вы-то? Вы-то, господин Симхе? Что говорить — свят муж, праведник, хоть в рай старостой. Много вы-то получили? Чего-то не вижу я вашего золота, чего-то оно, понимаете, не бренчит, звону нема. А то, может, где-нибудь под полом бочки целые? — Нохем хитро мигнул. — Тогда, господин Симхе, сделайте милость, дайте до среды тыщенку взаймы, а?
— Ты, Нохем, не в свое дело не мешайся, — сказал Симхе. — У меня с богом свои счеты. За ним не пропадет, не бойся. Не здесь, так там.
— Это где там? — крикнул Нохем. — Там, там. — Он сердито стукнул ногой об землю. — Нет уж! Дудки. Давай — не надо. Давай менять. Пусть тут, а там — фигу. Ничего, не обижусь. Не гордый. Пусть мне — тут, а Файвелу и Менделу — там. И ладно. И квиты. А чтоб им недолго ждать, сам вот, этими вот руками, отправлю их туда. Спроважу, как следовает, — с громом, с блеском, с барабанным треском. Валяй! Получай по счету!
— Эх, брат, — сказал Симхе, — меняючи, только вор разживается, да и то на три дня.
— Слыхали, — проворчал Меер. Он заговорил впервые в этот вечер, до этого он сидел, курил, слушал и молчал.
— А хоть бы и на три, — сказал Нохем. — Терять-то нечего.
И опять закашлялся. Потом встал.
— Пойду, — сказал он глухо. — Вставать-то рано, на свету. Эх-ма! — И, длинный, сутулый, пошел через улицу в дом.