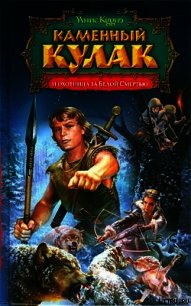Белая книга - Яунсудрабинь Янис (читать книги онлайн бесплатно полностью без .TXT) 📗
Когда пекли хлеб — это было важное событие. Как трещали, как щелкали в ночи сухие еловые дрова — любо-дорого послушать. Поначалу пламя вьется вокруг черных поленьев, словно бы ускользая куда-то мимо, но чуть погодя уже вгрызается в них, оставляет красные рубцы. Глядишь, вот уже на своде замерцали-замельтешили звездочки. Я тяну руки к огню и грею, но вскоре приходится удирать к боковой стенке. Из устья печи валит такой жар, что чудится: подойдешь поближе — ресницы опалит. Но женщины наши куда как ловко орудуют кочергой и метелкой: раз-два — и выгребут угли в горнушку, только платок чуть сдвинут на глаза. А я в сторонке стою наготове с кастрюлей в руках и обливаю угли водой. Они вмиг чернеют. Только плеснешь воды, над горнушкой взовьется облако пара, и наша батрацкая превратится в заправскую баню.
Теперь надо сажать в печь хлебы. Первым делом лопату устилают кленовыми листьями, потом берут из квашни большой кусок теста, кладут его на лопату, а уж потом, смочив руки водой, оглаживают бесформенный ком и превращают его в ладный продолговатый каравай. По бокам каравая, чтобы не трескалась корка, прокладывают пальцами глубокие бороздки, а наверху посередке рисуют крест. Хлеб за хлебом исчезают в печи. Квашня пустеет. Потом печь прикрывают заслонкой. Пепел, тлеющую золу сметают в подпечек. Остается глянуть на часы, чтобы знать, когда придет пора вынимать хлеб.
Вскоре весь дом полнится запахом пекущегося хлеба. Я вдыхал его и думал о теплой горбушке, которой меня сейчас угостят, потому что свежий, только что вынутый из печи хлеб всем полагалось попробовать, кем бы ни был хлебопек — другом твоим или недругом.
Глубокой зимой в трескучий мороз печь приходилось топить каждый день. Катрэ рубила хворост и охапку за охапкой носила в дом. Облипшие снегом ветки шипели и свистели, но, раскалившись, вспыхивали жарким светлым пламенем. В печь ставили чугунный котел. В нем варили щи. В котле бурлило, клокотало, с его раскаленных боков к середке стягивались пряди пара. Если не варили щи, то на том же месте жарили картошку. В печке всегда готовили что-нибудь вкусное.
Но самое большое наслаждение было для меня залезть в теплую печь и немножко там понежиться. Блаженство, которое я испытывал, невозможно описать. Ведь всю зиму я маялся на холодном земляном полу, руки-ноги у меня деревенели, я с трудом шевелил пальцами, и только когда сморкался, обнаруживал, что, пожалуй, кончик носа еще холоднее их.
Сколько раз, бывало, я, совсем закоченевший, залезал в печь, как только она чуть поостынет, и сразу переселялся в другой мир. Влезу в печь и тотчас поворачиваюсь лицом к шестку — очень уж я боялся дымохода — и оглядываю всю батрацкую: вот в шубейках сидят мать и бабушка, вон за прялкой Лиза, на руках у нее варежки с дырками для пальцев. А мне теперь все нипочем! Я теперь такой гибкий, ей-ей, сгодился бы дедушке вместо вязка в телеге — до того я распарился. Могла ли родная матушка меня так согреть?
Вот отчего и по сей день, когда я вхожу в чужой дом, глаза мои ищут печь, а рука тянется ее погладить.
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

Отрадно вспоминать те часы, когда женские хлопоты, тяжкий труд сменялись веселой беготней из дома в клеть, а из клети в дом с белым сверточком под мышкой. И какой приятной работой казалась тогда уборка двора! Он опять зеленел, словно только что омытый дождем, истоптанные дорожки, прогон белели, будто их посыпали мелом. Я бегал с граблями от одной кучи мусора к другой, сгребая солому и сор, в глубоком убеждении, что без меня никто бы с этим не справился и только благодаря мио двор стал такой чистый.
Отрадно вспоминать, как в седых сумерках по луговой тропе, что вела от бани к дому, неспешно ступали белые фигуры. С румяными лицами, в чистой одежде, с маленькими узелками под мышкой — это мужчины несли свои рубахи, впитавшие трудовой пот целой недели. Каждый нес мокрый растрепанный веник. Мужчины шагали по тропке и степенно переговаривались.
Спустя какое-то время той же тропкой возвращались женщины, высоко подоткнув подолы чистых юбок, чтобы уберечь их от мокрого песка и росной травы. Бабушка моя всегда шла одна и что-то бормотала себе под нос. Это она шептала молитву.
Отрадно вспоминать субботние вечера, когда после бани все домочадцы собирались за большим столом ужинать. В окошко заглядывала бледная заря. Сумрак окутывал миску с пахтой и проворно сновавшие ложки. Ни единый посторонний звук не нарушал их мерного перестука. Лишь тихим говором да звоном ложек о край глиняной миски полнился этот теплый вечер. Пес, тихий и смирный, сидел под столом, положив морду на колени хозяина, и терпеливо ждал куска хлеба. Только когда хозяин называл собаку по имени или гладил, лохматый хвост пса слегка подметал пол. Пес отлично понимал, что это субботний вечер, потому что в другие вечера все куда-то торопились, а хозяин выгонял его за дверь.
После ужина мы сиживали на крыльце клети. Мать кутались в тяжелый серый платок. Одним его концом она укутывала меня и крепко прижимала к себе. Нам с ней было тепло, и она говорила, что это я ее грею. Тогда я укрывался с головой и жарко дышал ей под мышку. На камне перед клетью сидел мой дядя и играл на гармошке. Подле него на траве пристраивался и наш пес Вактынь. Песни дядя играл печальные, и Вактынь ему подвывал. Одна за другой в небе нажигались звезды. Когда гармоника умолкала, мы слышали далекое пение. Это литовцы протяжно пели свои песни. Они пели на два голоса, очень звонко. Послушав их еще немного, мы уходили спать.
Хорошо вспоминать и те субботние вечера, когда лютовал мороз, да так, что на болоте гулко лопался лед, а стены и заборы трещали и щелкали.
Мы возвращаемся из бани домой. Еще светло от вечерней зари, но в небе уже светит луна. Под столбами изгороди на прогоне лежат легкие тени. Втянув голову в плечи, мы идем быстро, мороз щиплет голые ноги в деревянных башмаках, в носу при каждом вдохе колет ледяными иголками. В избе горит лампадка или самодельная свечка. Иной раз зажигали и лучину.
Пока женщины парились в бане, мужчины скоблили бороду, причесывались, набивали трубки. А когда наконец все собирались в дому, подавали ужин. После ужина взрослые беседовали о том о сем, а я полеживал в постели, грелся и глядел на них во все глаза.
После жаркой бани всем хотелось пить. Тогда бабушка шла в кладовую и приносила кочан, а то и два кочана свежезаквашенной капусты. Она щедро наделяла каждого, и мы хрустко грызли капустные листы, высасывали кисло-сладкий сок да пальчики облизывали. В миске бывало вдоволь соку, и мы его со смаком пили. Это было наше вино. Потом из дому выгоняли собак и дверь в сенях запирали на засов.
Мы с матерью садились в постели и шептали молитву. И всякий раз я был уверен, что это сам господь прикрывает мне глаза рукой и тихонько гладит по голове. Я открываю глаза, чтобы на него посмотреть. Никого. Темень. Только окна белеют, как листы бумаги. Слышится сонное посапывание. За печкой в куче хвороста шуршат мыши.
И тогда наплывала дрема, волна за волной, швыряла в глаза мне горсть радужных крестиков, золотистых хвоинок, будто с узорной рукавички. И я словно бы плавно погружался в теплую воду и исчезал из этого мира.
Отрадно вспоминать те часы, когда завершался недельный круг трудов и забот, когда на краткий миг человека обнимало лишь ночное небо с луной и бесчисленными звездами и, засыпая, он ощущал вокруг себя вечность — ее тугое серебряное кольцо.
ЦЫГАНЕ

Летней порой в рощице или на лесной опушке вдруг появлялись белые шатры, а над ними — сизый дымок.
— Опять эти нехристи объявились! Надо шугануть! — поговаривали наши парни.
Но никто цыган не прогонял, потому как все были уверены, что вблизи них самое надежное житье. Воровать по соседству они не станут, а пойдут куда-нибудь подальше. И впрямь, у нас в округе почти всегда стояли цыганские шатры. Но чтобы воровать, такого не было. Правда, и хозяйка паша, и батрачки зачастую по доброй воле откупались от цыган богатой данью, тем ограждая себя от всяких неожиданностей.