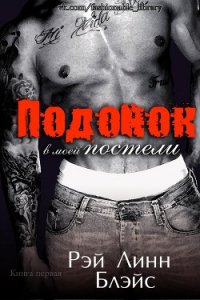Дедушка и музыка - Алешковский Юз (электронная книга TXT) 📗
— Есть что-то охота, — Жуков вытащил из-за пазухи кусок черного хлеба, два крутых яйца, и у меня первый раз в жизни при виде еды потекли слюнки.
Мы поделились с Нордом, нашли на ощупь лук и укроп, и было здорово, как никогда, есть согревшийся за пазухой хлеб и чувствовать, как терпко щекочет в горле от запаха укропа и сладко сводит скулы от нежного вкуса мокрых стрелок зеленого лука.
— Зря вы, коллега, сердитесь на деревню. Вот Пушкин писал: «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Я это начинаю понимать, — сказал я.
— Какие здесь для меня труды и вдохновенья? Одно спокойствие, — возразил Жуков.
Он ушел, а Норд неслышно бежал за ним.
«У, какой длинный и полезный день!» — подумал я, улегся в свое гнездышко на сеновале и, не успев ни о чем поразмышлять, сразу же уснул.
19
Утром меня разбудил Жуков. Дедушки дома не было.
Небо затянуло тучами, было прохладно, и мы, чтобы согреться, наперегонки побежали на пруд.
Жуков с разбега почти бесшумно нырнул, вытянув перед собой руки ладошка к ладошке, только круги пошли по зеленой воде, а под водой торпедой мелькнуло его загорелое тело, — над ним цепочкой тянулись белые пузыри.
Я тоже нырнул с разбега, но только неловко плюхнулся животом в воду. Меня сразу отнесло от берега, и я с головой ушел под воду.

Я даже не успел закрыть глаза, но, к счастью, задержал дыхание и в первый миг не смог сообразить, что вокруг меня не воздух, а вода, светлая над головой и жуткая, зеленомглистая снизу.
«Вот и все… — подумал я, выдохнув весь воздух, — вот и все…» У меня перед глазами мелькнул живой серебристый малек, и сам не знаю как, вдруг, когда коленки уже стали подгибаться, а грудь разрывала страшная тяжесть, я оттолкнулся ногами от дна, вынырнул, глотнул побольше воздуха, забарахтался, но не мог закричать от страха, перехватившего горло, и опять пошел на дно.
Все же я не закрыл глаза и успел стать лицом к пологому светлому берегу, и все во мне кричало: «Нет! Нет!» И я еще раз оттолкнулся ото дна и с удивлением почувствовал, что плыву, плыву! И в этот момент чуть не захлебнулся, но кто-то дернул меня за волосы и протащил вперед.
Я встал, обессилев, на коленки и увидел Жукова. Он размахивал руками и ругался, но я ничего не слышал. В ушах звенело, а от страшной радости хотелось плакать и, сидя вот так в воде, смотреть на небо, затянутое тучами, и на прибрежную траву и просто — дышать. Откашлявшись, я сказал:
— Спасибо, коллега. Никогда не забуду.
Я презирал себя за то, что, стоя на дне, подумал: «Вот и все. Вот и все…»
«Спасибо инстинкту самосохранения. Что бы было со мной, если бы он не сработал вовремя? Действительно, чахлое у меня тело… Но я тебя научу плавать! Я тебе такое устрою! Тебя еще не так заломит, как от дров и коромысла! Помни мое слово! Ты узнаешь, что значит быть телом! Я разовью твои руки и ноги. Лучше пусть моя голова будет находиться на широких, как у Жукова, плечах, чем на твоих худых и узких. Вот сиди в воде и мерзни!»
— Ладно. Не переживайте. Я три раза тонул. Вылезайте! Губы посинели.
— Нет! — крикнул я, ударив кулаком по воде. — Не уйду отсюда, пока не научу его… пока не научусь плавать. Не может быть, чтобы мое худое тело было тяжелей вытесненной им воды! По Архимеду! Что надо делать?
— Ну, что? Дышать ровно. Йогами и руками болтать, — сказал Жуков. — Вот так — по-собачьи. Только лучше не сейчас.
Но я, стоя лицом к берегу, уже отходил назад в воду и, когда мне стало по подбородок, оттолкнулся от дна, по-собачьи гребя руками.
Казалось, Жуков идет навстречу мне, но это я сам плыл, набрав побольше воздуха и не дыша и не веря, что плыву, и поверил только тогда, когда сучок на дне царапнул по животу и руки по локоть ушли в мягкий ил.
— Жуков! Я плыл? Ведь я плыл? — спросил я, все еще не веря.
— Плыл. Только хватит на первый раз.
Но я снова зашел поглубже и поплыл вдоль берега, стараясь не волноваться и все равно, захлебнувшись от радости и удивления, наглотался воды и с трудом доплыл до берега.
По дороге домой я, стуча зубами от холода, сказал Жукову:
— Давайте договоримся, коллега. Вы мне поможете усилить тело, а я вам помогу разобраться в кибернетике. Противно ведь иметь такое слабое тело.
— Идет! — сказал Жуков, — бежим!
20
В огороде я предложил завести «Героическую» и уселся поудобней, решив внимательно ее прослушать.
«Неужели я ее не пойму, если, конечно, Жуков не притворяется и там есть что понимать. А вдруг я — дубина?»
Жуков нажал кнопку и до отказа повернул ручку громкости.
Я старался ни о чем не думать, а только слушать, но при первых звуках симфонии вспомнил, как чуть-чуть не утонул, и вздрогнул: «Ой, что бы было?.. И эти слова неожиданно легли прямо на звучавшую музыку — «Что бы было тогда со мной?..» — и меня передернуло от ужаса и воспоминания о зелено-мглистой жуткой воде и от самого страшного чувства, которое бывает во сне, когда снится, что не можешь дышать, а вокруг полно воздуха и удушье сжимает горло все сильней и сильней, и ты, счастливый, просыпаешься, когда кажется: все… конец… задохнулся…
Эта мелодия на слова «Что бы было тогда со мной? Что бы было тогда со мной?» повторялась несколько раз то тихо, то громко, и после нее слышалось спокойное и безнадежное: «Все… конец…» Но оркестр вдруг непонятно почему кричал: «Нет! Нет!» Как будто это во мне под водой, в последний момент, побеждая удушье, все кричало: «Нет! Нет! Нет!» — и я отталкивался от дна. «Что бы было тогда со мной?! А был бы для тебя тогда конец всему на свете и для всего света конец тебя, но этого не будет, пока есть во мне хоть капелька силы и жажды подняться из зелено-мглистой жути к воздуху и к свету! Да! Да! Да!»
И когда музыка вдруг оборвалась, Жуков быстро прошептал:
— Теперь траурный марш. Так в книжке написано.
— Как? Как траурный марш? — растерянно спросил я.
Жуков не ответил, и музыка снова зазвучала, но тихо и так скорбно, что сжалось сердце и захотелось крикнуть: «Не может быть! Жуков! Он же победил! Не умер! Так не бывает!»
А скорбная музыка приближалась, и у меня комок подкатил к горлу. Все ближе и ближе, такая же скорбная, как та, что однажды доносилась до наших окон.
Умершего несли по нашей улице под моими окнами, за ним шли люди, думавшие о нем одном, и из труб, сверкающих на солнце, до меня поднималась эта музыка, и тоненько звенели стекла, и что-то обрывалось в сердце, и я не мог больше смотреть вниз на лицо умершего человека. Я успокоился, когда музыка совсем затихла и под окнами заскрежетали железные лапы снегопогрузчика, убиравшего с мостовой последние сугробы, но все равно не мог поверить, что кто-то умер…
Жуков неподвижным взглядом смотрел на черную с красным кружком посередине пластинку, а меня зло взяло на композитора Бетховена за то, что он обманул меня и оркестр, который сначала заставил бороться из последних сил до победы, а потом…
«Лучше бы не было такой музыки…»
— Жуков! — я не мог молчать. — Это же неправильно! Он победил! Мы же слышим! Он боролся до конца, как я в пруду!
21
Вдруг стало темно, ласточки попрятались куда-то, и от траурной музыки было еще страшнее в настороженной тишине.
Жуков взглянул с досадой на почерневшее клубящееся небо, быстро поставил над проигрывателем навес, а я принес из сарая дедушкин брезентовый плащ с капюшоном.
Мы накрылись им, и тут же змейкой мелькнула молния и громыхнул гром, как в первой части симфонии, и редкая россыпь первых крупных капель дождя дробно ударила по нашему плащу.
Мы с Жуковым прижались друг к другу, а дождь как будто раздумывал, идти ему или не идти, и только грохот грома стряхивал с туч самые тяжелые дождинки. Но когда музыка стала совсем тихой и невыразимо грустной, в небе вдруг рассыпалась молния, бело-голубая, с притоками, как Волга на карте, надорвался гром, и темнота стала серебряно-дымящейся от ливня, и был слышен только его свежий шум.