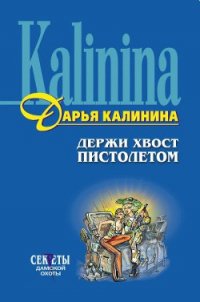Фронт[РИСУНКИ К. ШВЕЦА] - Офин Эмиль Михайлович (читать книги онлайн регистрации txt) 📗
Тишина оборвалась возгласом одобрения, смехом. Все смотрели туда, где на рундуке плечом к плечу сидели два моряка, молодой и старый. Один — в застиранной тельняшке, другой — в расшитом золотом адмиральском мундире.
С близких набережных в кубрик проникал шум
праздничного города.
ЛЕЛЬКА ФРОЛОВА
Они встретились однажды вечером близ Вердау в автотуристском лагере, каких немало разбросано по дорогам ГДР к юго-западу от Карл-Маркс-Штадта. Эти кемпинги очень похожи один на другой — комбинации благоустроенной гостиницы с палаточным городком, где, после того как помыл свою машину, можно рядом с ней и переночевать; это и дешевле и часто приятней: свежий воздух, звезды над головой — романтика…
Богаткин задержался возле своей «победы» — подкачивал воздух в запасное колесо, а немец бродил между машинами, искал, у кого бы прикурить. Так оии познакомились и разговорились. Этому способствовали хорошие сигареты, теплый вечер и то обстоятельство, что Богаткин неплохо знал немецкий язык. Сначала беседа, как это водится у автомобилистов, шла на чисто технические темы: о карбюраторах, качестве горючего, марках машин, а когда выяснилось, что Богаткин по профессии врач и живет в Ленинграде, немец воскликнул:
— О! Я два раза видел издали ваш замечательный город, но мне так и не пришлось побывать в нем.
Лука хорошо освещала немца. На вид ему было лет сорок пять, лицо слегка обрюзгшее, острый нос, светлые усы, взгляд холодный, невыразительный. «Вот такими пустыми глазами он, может быть, смотрел из кабины «мессершмитта» на блокадный Ленинград», — подумал Богаткин. И сразу вспомнилась война — смерть, голод, разруха. Толковать об этом, да еще с каким-то коммерсантом из ФРГ, не хотелось, и, чтобы переменить разговор, Богаткин сказал:
— Я живу не в самом Ленинграде. В Пушкине. Немец еще более оживился:
— В маленьком городке Пушкине?.. Простите, вы ведь врач. Уж не в больнице ли там работаете?
— Нет. В Исследовательском институте. Имею дело, главным образом, с подопытными животными. С кроликами, например.
— С кроликами?.. — Немец как-то странно посмотрел на Богаткина и пробормотал: — Кролики, кролики…
— Ну да, кролики. А что здесь такого? — спросил несколько озадаченный Богаткин. — Обыкновенное дело.
Наступила пауза.
Край облака наполз на луну, по верхушкам потемневших деревьев прошелся ветер, где-то глухо захлопнулась дверка автомобиля. Лагерь засыпал. Богаткин принялся убирать инструмент в багажник.
И тут немец заговорил:
— Может быть, я больше никогда не встречу русского… Позвольте, я расскажу? Вы поймете. Я хочу рассказать…
Богаткин пожал плечами, зевнул, прикрыв рот ладонью. Однако раскрыл дверцу «победы».
— У нас есть поговорка: в ногах правды нет. Присядем?
— Благодарю. — Немец уселся рядом с Богаткиным, смял в пальцах окурок и откинулся на спинку сиденья.
— Впервые я попал в Россию, как вы можете догадаться, в военное время. Только, прошу вас, поверьте, что я не был ни фашистом, ни эсэсовцем. Я был просто солдатом, которому приказывают подавать снаряд — и он подает, приказывают стрелять — и он стреляет, приказывают кричать «хайль» — и он кричит. К русским у меня не было ненависти, однако я должен был стрелять в них и идти вперед, потому что боялся получить пулю не только в грудь, но и в спину. Короче, был молод, хотел жить. Конечно, в своих злоключениях я обвинял русских. Но, повторяю, я был молод тогда, а пропаганда… Ну, вы сами, наверно, знаете, какая у нас была пропаганда. Она и не таким, как я, могла вывихнуть мозги…
Немец потер висок, провел ладонью по коротко остриженной голове.
— Извините, отвлекся. Я хотел рассказать совсем о другом. Не буду хитрить, я рвался в Ленинград наравне с другими; уж очень богатые трофеи и награды нам обещали, а главное, вбивали в голову: взять Ленинград — значит победить, кончить войну. Но, как всем хорошо известно, застряли мы тогда под самым Ленинградом, в маленьком городке Пушкине. Накрепко застряли и надолго… И опять не стану кривить душой: в то время не жаль мне было ни вырубленных на дрова столетних дубов в дворцозых парках, ни разграбленных и сожженных музеев. Я считал это в порядке вещей: война, каждый хватает что может. Я тоже успел захватить какие-то тарелочки с пастушками и царскими вензелями. Помню, долго таскал их в ранце, пока не перебил половину, а остальные как-то попались на глаза фельдфебелю — отобрал. Скотина и грубиян был он, этот фельдфебель, не жалел нашего брата-рядового, а уж тем более русских. Впрочем, жителей в Пушкине почти не было, большинство разбежалось. В полуразрушенной больнице — мы ее на первых порах заняли под казарму — не оказалось ни одного больного, видно, их заблаговременно эвакуировали. Попалась нам только одна сторожихина дочка, девчонка лет пятнадцати: она осталась из-за кроликов. Ну, в общем, были там подопытные животные. Собак она выпустила, а кроликов ре-, шила кормить и охранять. Так и сказала — «вахен». Полоумная какая-то. Черная, как галка, худая, как мальчишка, большеротая, оборванная. Мы ее приспособили уборщицей в казарму, больше она ни на что не годилась. Вот уж фельдфебель потешался над ней! Мало того что по три раза в день приказывал скрести полы, так еще свои подштанники заставлял стирать и обращался к ней не иначе как: «Эй, Лелька, русский свинья!» — и на затрещины не скупился, словом, помыкал ею, как хотел: «Лелька, туда! Лелька, сюда!» А она всё терпела, лишь бы ее крольчат не трогали. Ради этих кроликов Лелька на все была готова. Ока скармливала им не только свой паек, но еще и у наших солдат выклянчивала жратву, старалась оказывать им всякие услуги — постирать там, заштопать что-нибудь. А однажды даже стащила у фельдфебеля бидончик молока и полкирпича хлеба. Ну, тут уж ей досталось. Наш фельдфебель был такой: все высматривал, у кого бы что отобрать, а мое, упеси бог, не тронь. Он и этих кроликов давно бы в свой котел пустил, да побоялся: Лелька сразу предупредила всех нас, что им впрыскивали какую-то вакцину… Ну, отхлестал он девчонку по щекам, отругал последними словами, а мне приказал: «Рядовой Бауэр, идите и немедленно уничтожьте кроликов! Всех до одного!» Поручение было не очень приятное. И ке потому, что я жалел девчонку. Я уже сказал, что в те времена никого и ничего не жалел, просто Лелька обитала со своими кроликами в сыром вонючем подвале и лезть туда лишний раз было противно. Но приказ есть приказ. Я велел Лельке идти впереди меня, и мы отправились.
Под разрушенной больницей был прямо-таки настоящий лабиринт, сводчатые переходы с закоулками и тупиками; сверху каплет, внизу хлюпает, в темных углах навален всякий хлам: ржавые койки, пустые бутылки в корзинах, склянки, прелью тюфяки, поломанные ящики. Я шел и чертыхался. Луч моего фонарика упирался в рваный ватник, который был надет на Лельке. Так мы добрались до ее жилья. Здесь было сухо и дышалось легче. Через окошко под сводом проходил воздух и немного света, у стены стояла застланная койка, рядом больничная тумбочка с осколком зеркала и огарком свечи. Клетка помещалась в дальнем углу подвала. В ней оказалось всего четыре кролика, щуплые такие, худосочные, сбились в угол друг на друга, уши поприжимали.
«А где же еще? — спрашиваю. — Их ведь было много».
«Умерли, — говорит Лелька и вздыхает. И вдруг она разжимает маленький кулак, а на ладони — тонкое золотое колечко с красным камушком. — Возьми себе солдат. Не надо стрелять кроликов». — И смотрит на меня своими черными глазами, а ее большой рот так и дергается.
Сколько лет прошло, а до сих пор помню я этот взгляд. Было в нем что-то, от чего мне стало не по себе. И еще помню — злость взяла меня тогда на эту глупую девчонку.
«Ну что тебе в этих кроликах? — спрашиваю. — Ведь война, люди погибают».
На это Лелька мне ничего не ответила. Только сунула мне под нос свое колечко.