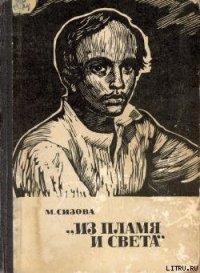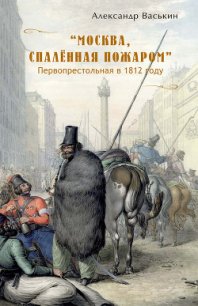«Из пламя и света» (с иллюстрациями) - Сизова Магдалина Ивановна (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Довольно, граф, — остановил его великий князь. — Я вас понял. Ради этих имен приходится пока что терпеть и выжидать. Но скажите на милость, на что им дался этот маленький гусар, черный, вертлявый и похожий в своем красном ментике на бесенка с красными крыльями?
— Лермонтов пользуется среди них большим влиянием, ваше высочество. Они прислушиваются к каждому слову его — и устному и печатному.
— Тем хуже для него! Предупреждаю вас, граф, что, если до меня дойдут слухи о чем-нибудь серьезном, я сам разгоню это лермонтовское гнездо!
ГЛАВА 26
— Что же нам делать?
Этот вопрос, волновавший еще студентов Московского университета, собиравшихся у Лермонтова на Малой Молчановке, поднимался и теперь, на собраниях «кружка шестнадцати» — этого «лермонтовского гнезда». Члены кружка знали, что великий князь грозился разорить его.
— Да, господа, не приходится ли признать, что ежели вера без дел мертва, то любовь к отечеству и подавно?
сказал, обращаясь к собравшимся, самый юный из шестнадцати, только недавно выпущенный из Пажеского корпуса двадцатилетний Александр Долгорукий.
Князь Иван Гагарин, дипломат, постоянно живший то в Мюнхене, то в Париже и знавший лично многих замечательных людей Европы, собеседник Шеллинга, Чаадаева, Тютчева, с улыбкой сдержанного одобрения посмотрел на Долгорукого.
— Ваша молодая горячность делает честь вам, мой юный друг, — сказал он. — И хотя я не знаю, кому принадлежат только что процитированные вами строки, они продиктованы совершенно правильным чувством.
— Еще бы! — Долгорукий улыбнулся и просиял от удовольствия. — Ведь это сам Михаил Юрьевич написал. Правда, это сказано девять лет тому назад — в его юношеской поэме «Последний сын вольности», но мы и сейчас спрашиваем себя о том же — мы, последние, а может быть, первые сыны вольности!
— Вы правы, друг мой, — продолжал Гагарин. — Но прежде чем говорить о деле, нужно твердо знать и договориться с другими о том, что следует разуметь под этим словом. Поверьте, что нет среди нас человека, который больше меня стремился бы к делу. Но какое дело доступно нам в данный момент, я еще не могу с уверенностью сказать.
— Какое дело? — быстро спросил Долгорукий, вспыхнув, как девушка. — Хотя бы то, которое совершили французы полвека назад, в 1789 году!
— Дело — значит борьба, — отозвался негромко Жерве.
— Вот именно. Именно борьба! — Долгорукий горячо подхватил это слово. — И Франция боролась и победила; и мы должны следовать тем же примерам.
— Нет, нет, мой друг, не думайте найти совершенство в западноевропейском строе. Россия не должна подражать Европе. Мы должны расчистить для России ее собственный, особый путь.
— А как, по твоему мнению, сможем мы расчистить для России путь? — спросил Столыпин, медленно ходивший по кабинету.
— В этом смысле Лермонтов счастливее всех нас, — ответил ему вместо Гагарина голубоглазый Фредерикс.
— Я? — с удивлением посмотрел на него Лермонтов. — Что ты хочешь сказать, Дмитрий Петрович? Не я, конечно, а те, кто был четырнадцатого декабря на Сенатской площади. Вот они были людьми дела и знали, что такое борьба.
— Я повторяю твои же высказывания. Ты хочешь посвятить отечеству и жизнь свою и слово, потому что ты владеешь словом, а значит, и оружием для борьбы.
— Ах, Михаил Юрьевич, — волнуясь, перебил опять Долгорукий. — Вы сами сказали о поэте:
И дальше:
— Мы все в это верим, — отозвался Шувалов, — и, кроме того…
Но он не кончил. Кто-то сильным рывком открыл дверь, и все увидели на пороге высокую фигуру Браницкого. Он был очень бледен, глаза его горели гневом, и он смотрел прямо перед собой, точно не видя никого.
— Откуда ты, Ксаверий? — спросил Лермонтов.
Браницкий поднял голову.
— От моего врага, — проговорил он сквозь зубы.
— Как?.. Откуда? — раздались голоса. — Неужели ты был сейчас во дворце?..
Браницкий рассказал, что был вызван к государю, который пожелал лично побеседовать с ним.
— Ему, видите ли, интересно было узнать именно от меня, как от потомка «коронного гетмана», какие настроения господствуют сейчас в польском и в украинском обществе. Но Николай Павлович ошибся в выборе: потомок «коронного гетмана» ни соглядатаем, ни предателем не будет. Нет! И он это сегодня понял.
— Почему же он обратился к тебе? — спросил Столыпин.
— Без сомнения, потому, что ему Витт обо мне говорил. Это ведь по ходатайству Витта меня в 1837 году прикомандировали к лейб-гвардии гусарскому полку, а теперь они захотели…
— Подожди! — перебил его Лермонтов. — Витт! Ведь это о нем говорят… Ну конечно, о нем. Он донес императору Александру о существовании Южного общества, за что Николай Первый оказывает ему свою особую милость.
— Я не верил этому! — Браницкий с сомнением покачал головой.
— Можешь не сомневаться! — бросил уверенно Лермонтов.
И вдруг точно каким-то светлым огнем блеснул его темный, так часто сумрачный взор.
— Господа! — сказал он вдруг зазвеневшим голосом. — Разве не стоит порадоваться тому, что мы, шестнадцать человек, а за нами многие, кого мы еще не знаем, говорим на одном языке и ждем одного и того же?
Одоевский, — продолжал он, помолчав, — написал в ответе своем Пушкину, что из искры разгорится пламя. И мы должны быть такой искрой. Мы рождены среди гнета и крепостного права, среди узаконенного рабства, тюрем, ссылок и шпицрутенов. Но должен быть какой-то выход, должны быть средства избавления!
— Однако, господа, — сказал молчаливый Валуев, — мы беседуем здесь так, как будто Третьего отделения не существует на свете.
— Что за беда! — беззаботно отозвался Лермонтов. — В стенах этого дома можно об этом отделении забыть.
— При том условии, если и Третье отделение о нас забудет, — ответил осторожный Валуев. — Я слышал, между прочим, что великий князь зорко присматривается к поведению Михаила Юрьевича и прислушивается к его словам.
— Сегодня я перечитывал вновь две твои пьесы, Михаил Юрьевич, — «Думу» и «Поэта»! — сказал Фредерикс.
— Да? И что же? — спросил Лермонтов.
— И мне стало стыдно — и за себя прежде всего, а потом за всех нас, потому что и мы ведь принадлежим к тому же поколению. Но мы все-таки поняли, что так жить, как живут в нашей стране, больше нельзя.
— Михаил Юрьевич, есть большое внутреннее сходство твоей «Думы» с мыслями Чаадаева, с его пессимизмом во взгляде на Россию, — сказал Валуев. — Ты с этим не согласен?
— Согласен, но только отчасти. Мысли Чаадаева и мои имеют общее начало. И мы оба любим Россию, но, одинаково сильно любя ее, приходим к разным выводам.
— Ты прав, Лермонтов! Для того чтобы Россия заняла достойное место в ряду других европейских стран, она должна освободиться от своего позорного гнета любой ценой! — резко сказал Браницкий.
Валуев посмотрел на него с удивлением.
— Любой ценой? — повторил он. — Не всегда надо стрелять… Нет… И не всякий выстрел вовремя. И вообще есть другие средства.
Браницкий вскочил со своего места. Между ним и Валуевым начинался обычный горячий и напряженный спор. Желая предупредить его, Столыпин, улыбаясь, сказал:
— Не забывайте, господа, что нашими собраниями все больше и больше интересуются великий князь и Третье отделение.