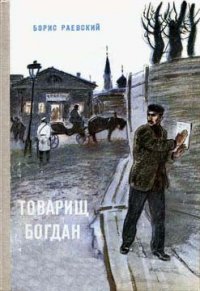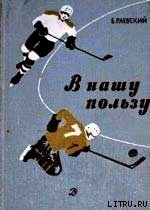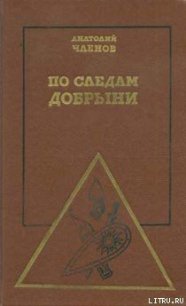По следам М.Р. - Раевский Борис Маркович (первая книга TXT) 📗
А через день по заводу пошли гулять листовки: о Ходынке, о царе-тиране, о рабочей правде, и о том, как ее добыть. Листовки переходили из рук в руки, и Илюшка слышал, как токарь Иван Петрович, передавая бумажку, шепнул: «Верста» писал, башковитый парень!»
Тем же летом Илья Ефимович впервые попал на занятия подпольного кружка. И обомлел: за столом в тесной комнатке на Фонтанке сидел тот самый долговязый парень, что сорвал тогда молебен. И называли его кружковцы — «товарищ Верста».
…Илья Леонтьевич говорил негромко, часто останавливался, и все-таки рассказ утомил его. Но ребята этого не замечали. Им хотелось услышать побольше, и они снова накинулись на старика с вопросами:
— А что потом? А чему он вас учил?
Илья Леонтьевич покачал головой.
— Уму-разуму, вот чему. Насчет царя, насчет фабрикантов и ихней хитрой механики: как бы с рабочего содрать побольше. Помню, один вечер он все про штрафы объяснял — за что их с нас берут, куда их хозяева девают, и как нам все это боком выходит. Один наш слесарь ему тогда и говорит:
— Выходит, раньше нашего брата били дубьем, а теперь рублем.
Очень это «Версте» понравилось.
— Здорово вы, товарищ, сказали. Обязательно «Старику» передам…
Я тогда не знал, кто такой «Старик». И забыл весь этот разговор. А через много лет, уже после революции, читаю у Ленина статью насчет штрафов и вдруг на прибаутку этого слесаря наткнулся. Видимо, и впрямь передал «Верста» «Старику» рабочее словцо.
— «Стариком» тогда Ленина звали… Я читал… — успел шепнуть ребятам Витя.
— Приходил «Верста» обычно один, — продолжал Илья Леонтьевич. — Лишь раз они вдвоем пришли; второй тоже молодой, только покрасивее и на вид попроще — из нашего брата, из рабочих. Я его потом встречал, да и вы, наверно, слышали: Бабушкин Иван Васильевич, по кличке «товарищ Богдан».
Ефимов прервал рассказ и задумался.
— Много времени прошло, всего и не вспомнишь, — сказал он наконец. — Да, и видел я его раз пять от силы. А потом пропал человек: накрыли его — и в Сибирь.
Его и раньше выслеживали, обыски у него устраивали, но все обходилось. Наши потом рассказывали, как он нелегальщину прятал. Выдолбил в полене тайник.
— Тайник? — перебил Генька и взглянул на ребят. Но те уже и сами вспомнили речь прокурора.
— Да, выдолбил в полене глубокое дупло, — продолжал Илья Леонтьевич, — приладил к нему деревянную крышку-задвижку. Аккуратно все сделал: на крышке даже бересту оставил и сучок, так что она и вовсе неприметна. Полено как полено. А потянешь за сучок, задвижка и отойдет. Пожалуйста, тайник открыт. Там он что надо и держал. А полено возле печки, среди дров, валялось. Поди найди!
Но в последний раз добрались, живоглоты: поленницу стали разбирать. «Верста» догадался, что кто-то их на след навел, хотел незаметно свое полено в печь бросить, да не смог. За руки его схватили. Это уж хозяйка потом передавала.
Илья Леонтьевич замолчал.
— Да, — сказал он. — Всего и не вспомнишь… Ну, а что еще вы узнали о «Версте»?
Ребята наперебой стали рассказывать.
Узнав, какие слухи были распущены о Рокотове, Ефимов возмутился:
— Вот оно что! То-то все молчат. Забыли о «Версте», а зря! Героический человек был, достойный человек.
— А вы — молодцы! — старик снова ласково взглянул на ребят. — И уж если вы столько о нем узнали, бейтесь дальше. Пусть историки займутся «Верстой». Его место во-он там…
Старик с трудом повернулся в своем глубоком кресле и рукой указал в окно. Ребята, как по команде, посмотрели сквозь стекло. Там, за площадью, в начале бульвара, стоял невысокий особняк. И хоть издалека невозможно было разобрать привинченной к фасаду памятной доски, но ребята знали и так: отсюда, с этого балкона в семнадцатом году выступал Ленин. В этом знаменитом здании теперь помещался Музей Революции.
Глава XX
ФОТОГРАФИЯ В МУЗЕЕ
В высоком мраморном вестибюле Музея Революции бесшумно двигались группы пионеров, одетых в парадную форму. Белые мраморные колонны, сверкающий, как лед, паркет, широкие светлые лестницы и переходы — вся эта непривычная, торжественная обстановка угомонила ребят, настроила необычно серьезно.
В небольшом лекционном зале быстро установилась тишина.
— Собрание отряда красных следопытов считаю открытым, — торжественно объявил Вася Коржиков. — На повестке один вопрос: отчет «Особого звена». В президиум предлагаю…
И вот за длинный, покрытый красным бархатом стол президиума стали пробираться Генька, Оля и Витя. Оба мальчика были красные, неповоротливые: торжественная обстановка явно смущала, связывала их. Они бочком прошли между рядами и сели в президиуме на самые кончики стульев во втором ряду, стараясь укрыться за спиной Васи Коржикова. Только Оля держалась как ни в чем не бывало и невозмутимо уселась в самой середине стола.
Рядом с нею устроился сухощавый старик с большим хрящеватым носом и кустистыми бровями.
— Сын Рокотова… Сын… — зашептались в зале.
Слева от старика села его дочь, Настя, а по другую руку — Николай Филимонович. Вдруг в зал вошел еще старик, маленький, с темно-бурым, словно кирпичом натертым лицом.
— Кто это? Кто? — заерзали пионеры.
— Старый большевик, друг Рокотова, — важно объявила толстая всезнающая девочка в огромных очках.
Это и в самом деле был Илья Леонтьевич Ефимов. Шел он очень медленно: передвинет одну ногу, неторопливо приставит другую, отдохнет, — еще шажок — опять отдых. Его вела, осторожно придерживая под локоть, молодая, но почему-то седая женщина в черном платье — сотрудница музея. Илья Леонтьевич опирался на толстую палку с костяным набалдашником. Особенно трудно было ему забраться на сцену, но он все же преодолел ступеньки и сел за стол президиума.
— Сейчас выступит пионерка «Особого звена» Оля Гармаш, — объявил Вася Коржиков.
— Почему Оля, а не Генька? Он же звеньевой, — зашептались ребята.
Это в самом деле казалось непонятным. Но так решило «Особое звено». Позавчера Генька, Витя и Оля долго обсуждали: кому выступать?
— Только не я, — заявил Генька. — Обязательно собьюсь.
Сколько Витя и Оля ни уговаривали его, Генька твердо стоял на своем. Витя тоже выступать не мог.
— Растянет на три часа, — махнул рукой Генька. — Между его двумя словами запросто можно еще четыре вставить!
Значит, докладывать оставалось Оле.
…И вот сейчас она впервые в жизни стояла на настоящей трибуне, коричневой деревянной трибуне с полочкой для бумаг и лампочкой, скрытой от зрителей.
«Только бы не растерялась», — нервничал Генька.
Оля перекинула на спину косы, облизнула губы.
«Так и есть! Забыла!» — тревожился Генька.
Но Оля солидно откашлялась и начала:
— Многие ребята уже знают: к нам в руки попал замечательный исторический документ — дневник погибшего революционера М. Р. Сперва никто в мире не знал, что означают эти две загадочные буквы на деревянном переплете дневника…
«Гладко начала, — удовлетворенно подумал Генька. — Теперь уж не собьется».
Его всегда поражала Олина способность говорить плавно, закругленно, как по книжке.
А Оля все рассказывала и рассказывала. И о Горном институте, и о старичке архивариусе, и о чудесной лаборатории, где читают даже зачеркнутое. Рассказала она подробно о жизни Рокотова, о его побеге и гибели.
Генька посмотрел на электрические часы, вделанные в стену над дверью. Прошло уже двадцать семь минут, а Оля все говорила и говорила. И все в зале сидели тихо, даже как на самом интересном кино не сидят.
«Здорово!» — подумал Генька.
— Я вот иногда думаю, — продолжала Оля, — а что, если б не было Рокотова и таких, как он? Что бы тогда было со мной? Ходила бы замурзанная, в чиненом-перечиненном платье, в истоптанных, дырявых туфлях, ведь я же дочка простого рабочего. В школе бы я, наверно, не училась. Класса три, может быть, кончила и ладно. Работала бы, наверно, швеей в мастерской. Во всех старинных книгах бедных девочек всегда почему-то в швеи отдают или на ткацкую фабрику.