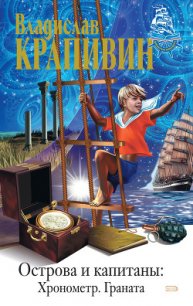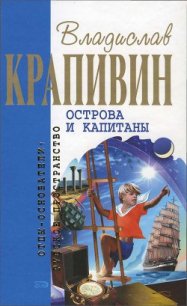Хронометр (Остров Святой Елены) - Крапивин Владислав Петрович (читать книги без регистрации .txt) 📗
Полдня ходил он без цели среди больших зданий португальской колониальной постройки и среди кривых лачуг, по набережной и рынку с дымом жаровен и криками торговцев. На диковинки и редкости, что продавались в лавках, смотрел без прежнего интереса, на богатство – без зависти, на нищенство – без сочувствия. Лишь в те минуты, когда видел голых, копошащихся среди мусора и мух ребятишек, просыпалась колющая душу жалость. С детства не выносил, когда страдают маленькие. В корпусе несколько раз шел под розги, взявши на себя вину младших кадетов…
Сейчас дал несколько монет согнувшимся до земли родителям голодных детишек и ушел поскорее из нищего квартала. Бежал со стыдом. Какой монетою откупишься от страданий человеческих?
Любил о сем предмете говорить и Резанов, когда беседовали они вдвоем. Сетовал Николай Петрович на жестокосердие людское, от которого много на свете боли и несправедливостей. Верил тогда ему Головачев… А сейчас? Сделает ли Резанов что доброе для облегчения жизни промышленных людей и жителей островов американских, как обещал? Или правду говорил Ратманов, что печется его превосходительство лишь о прибылях, потому что сам вложил свои капиталы в дела Компании?
Верилось, что сделает. Николай Петрович – человек добрый и честный. Но… вспоминалось и другое. Как не отпустил Резанов на родину японских рыбаков, принесенных бурею к берегам Камчатки. Не отпустил, несмотря на просьбу Крузенштерна. Объявил, что якобы сделать сего без дозволения государя императора не может… Рыбаки, обманувши сторожей, без пищи и воды, на утлой байдаре уплыли с Камчатки. По слухам, они благополучно добрались до родины, господь был к ним милостив… Но почему не мог быть милостив Резанов? Срывал на бедняках досаду за свое неудачное посольство в Нагасаки?
Ну, в конце концов, что Резанову какие-то незнакомые японцы? Не ощутил он сердцем их несчастий и тоски по дому… Но как он мог бросить Петра Головачева? Оставил, будто случайного надоевшего попутчика… И обиды этой не изжить, потому что нет ничего больнее предательства…
В лавчонке под бамбуковым навесом сидел старый китаец, крутил в руках кусок желтого дерева и кривой нож. Сыпалась из-под ножа мелкая, как пыль, стружка. Полки были установлены деревянными драконами, фигурками неведомых зверей, куклами, идолами всяких размеров и бюстами-портретами, что в отличие от идолов и зверей вид имели человеческий и живой.
Два английских матроса вертели в руках бюст и сдержанно гоготали. Были, видимо, довольны сходством. Сходство с одним из матросов и вправду было явное…
Неясная еще мысль мелькнула у Головачева. Постоял он, криво усмехнулся, спросил у резчика по-английски:
– А меня сделать можешь?
Китаец заулыбался беззубо, закивал, выдернул из-под себя лист картона, макнул в пузырек с тушью бамбуковую палочку. Пристально и твердо, несмотря на улыбку, глянул на офицера глазами-щелками и фантастически быстро набросал на шероховатом листе его черты – анфас и в профиль.
Головачев, узнавши себя как в зеркале, поразился сходству. Испугался даже. И сразу подумал: “Значит, судьба”.
Пришептывая, на ломаном английском языке китаец сказал, что господин может прийти вечером, заказ будет готов. Головачев кинул ему в задаток португальский пиастр и до вечера бродил среди разноязычного многолюдья или сидел на берегу, где от воды пахло гнилью и человеческим потом. Зашел в таверну, выпил кислого теплого вина, хотя раньше не пил даже в праздники за обеденным столом.
Ближе к сумеркам пришел он в лавку китайца. Бюст был готов, и Головачев опять вздрогнул, уловивши живое сходство.
“Меня не будет, а он останется…”
“Ну, что же, так и надо. Пусть помнит…”
На этом Толик уснул.
Проснулся он поздно. Тупо болела голова, скребло горло. Но Толик жаловаться не стал и поднялся сразу. Аккуратно застелил постель и стал делать все, что велят мама и Варя: сходил за водой и за хлебом, помыл после завтрака тарелки, помог Варе выжать и развесить на дворе выстиранное белье… Хмурой покорностью он как бы казнил себя за вчерашнее.
Мама печатала. Перед обедом она закончила предпоследнюю главу и сказала, чтобы Толик проложил копиркой новые листы. Последнюю порцию. А сама пошла к знакомой машинистке – просить свежую ленту к своему “Ундервуду”.
Варя окликнула Толика из кухни:
– Ты не забыл, что хотел сходить на рынок за картошкой?
– Ужасно хотел. Аж вспотел весь, – буркнул Толик. Но сложил в пачку готовую к работе бумагу и пошел.
Когда он вернулся, дома не было ни мамы, ни Вари.
Толик снова сел читать. Царапанье в горле прошло, голова тоже почти не болела, лишь кружилась немного.
Глава называлась “Выстрел”.
Толик прочитал полстраницы и услышал, что в наружную дверь стучат. Так размеренно и аккуратно стучал лишь Витя Ярцев – когда приходил с поручением от Олега. У Толика замерло и часто застреляло сердце. Он выскочил в коридор.
– Здравствуй, – привычно сказал Витя. И сбился. Виновато махнул ресницами и стал смотреть в пол. Он держал сломанный пополам деревянный меч и разорванный до половины картонный щит. Его, Толика, меч. Его шит.
– Вот, – проговорил Витя. – Олег велел отдать… Потому что мы так решили.
– Что решили? – тихо спросил Толик. Хотя все, конечно, понял. Ох как тошно ему сейчас было…
Витя поднял наконец глаза. И сказал тверже:
– Потому что мы тебя исключаем. Раз ты бросил нас в опасный момент.
Толик молчал. Стоял прямо и спокойно. Этим внешним спокойствием, этим молчанием он только и мог защитить себя от стыда и горя. Хоть чуть-чуть защитить.
– Ну… вот. Все, – опять виновато сказал Витя. И положил картон и обломки к Толькиным сандалиям. – Я пошел…
– Хорошо, – отозвался Толик.
– А может… ты что-то сказать хочешь?
– Нет. Зачем?
Это было для Вити уже непонятно. Кажется, он ждал, что станет Толик оправдываться. Не дождался. Повторил растерянно:
– Тогда я пошел.
– Иди.
Витя неловко двинулся по коридору. Толику очень захотелось заплакать. Он даже подумал, как придет в комнату и уткнется носом в подушку… Но сейчас плакать было еще нельзя. И он смотрел в спину робингуду Ярцеву и вдруг вспомнил, как шли они друг за другом по сучковатому стволу.
– Подожди, – сказал он, и Витя быстро обернулся.
– Что?
– Скажи… вашему командиру… – Толик переглотнул. – Он, конечно, смелый и вообще… И все вы тоже. Но если человек тяжесть несет, ему надо помогать, чтобы не сорвался.
– Ты не сорвался, а просто сбежал, – тихо возразил Витя.
– Я не про себя, а про Шурку.
Нет, он не стал плакать, когда вернулся в комнату. Сделалось немного легче оттого, что он сумел в чем-то упрекнуть робингудов. Он, Толик, плохой, но и они тоже виноваты… Это было хотя и чахленькое, но все-таки утешение…
Сломанный меч Толик отправил в печку: все равно не починишь, да и зачем он теперь? Хотел сунуть туда же и порванный щит. Не нужна ему теперь эта рыцарская эмблема.
Но в последний момент он передумал.
Увидел в углу щита звездочку и передумал.
Такая звездочка… Как на рукаве гимнастерки… Если сжечь, значит, он, Толик, совсем уже никто? Хуже всех?
Он всхлипнул наконец и начал с сумрачным упорством искать по ящикам конторский клей. Нашел пузырек. Склеил щит по разрыву, придавил к полу, подождал, когда высохнет. Потом, стискивая зубы, прибил щит к сыпучей штукатурке над своей кроватью. Назло робингудам. Назло себе. Назло слезам.
Затем он снова потянулся к листам с главой “Выстрел”.
“…Корабль мягко качало. В ящике стола, царапая дерево, ездил туда-сюда пистолет со свинченным курком. Курок испортился еще на Камчатке, когда были на охоте. Давно следовало отдать в починку слесарю Звягину или заняться самому, да все недоставало времени.
Головачев уже который день подряд писал письма. Родным, капитану и даже государю. Чтобы объяснить, почему же такое случилось с ним, с лейтенантом Петром Головачевым… Вначале слова находились с трудом, а потом словно что-то открылось в душе, и фраза за фразой потекли на бумагу.