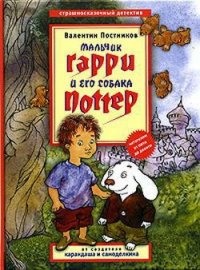Детская книга - Акунин Борис (онлайн книги бесплатно полные .TXT) 📗
Ластик очень боялся, что царица разоблачит самозванца, но Юрка был беспечен. «Узнает, как миленькая, — говорил он. — Думаешь, охота ей в глуши сидеть, на хлебе да воде? А так она государевой матерью будет. Представительницам эксплуататорского класса сладкая жизнь дороже всего».
И оказался прав. Встреча вдовицы с чудесно обретенным сыном прошла на виду у многочисленной толпы и была столь трогательна, что над площадью стоял сплошной всхлип да сморкание.
Государыню-матушку с комфортом устроили в кремлевской Вознесенской обители, царственный же сын остался жить-поживать во дворце, к полному взаимному удовлетворению.
Выборные горожане проводили августейшую невесту к будущей свекрови в Кремль и лично убедились, что карета скрылась за крепкими монастырскими воротами. Моментально разнесся слух, что полячка готовится принять православную веру, и это всей Москве очень понравилось.
А еще больше понравилось, что с этого дня в столице начались празднества и гулянья, с музыкой и бесплатным угощением. По царскому распоряжению, вина народу не давали, лишь квас да сбитень, но выпивкой православные разживались сами, так что пошло всеградно питие и веселие зело великое.
Сенат в эти дни не заседал, весь царский двор готовился к свадебному пиру. Одному князю Солянскому было не до праздников — он исполнял ответственную, но занудную службу: представлял особу государя при августейшей невесте.
Кроме него никто для этой церемониальной роли не годился, потому что взрослым мужчинам недуховного звания вход в женский монастырь был заказан, князь же Солянский, хоть и почитался за первого вельможу Московского царства, числился пока еще не в мужах, а в отроках.
По обычаю, невесту полагалось «оберегать», то есть следить, чтоб ее не похитили или, того хуже, не сглазили. Во избежание первого вкруг стен монастыря стояли караулом стрельцы и польские жолнеры (хотя предположить, что кому-то взбредет в голову красть цареву суженую из Кремля, было трудновато). Гарантию от «черного глаза» обеспечивал лично князь-ангел.
Работа у Ластика была такая: разряженный в пух и прах, во всей парчово-собольей сбруе, он сидел в покоях Марины и ровным счетом ничего не делал. Просто наблюдал, как Юркина избранница готовится к свадьбе и управляется со своей шумной свитой. Смотрел и восхищался.
Фрейлины, камер-фрау и служанки пани прынцессы в отсутствие мужского пола весь день ходили неприбранные, нечесанные, а то и полуодетые. Ластика перестали стесняться очень быстро. Попялились немного на нарядного истуканчика, важно сидящего в высоком почетном кресле, похихикали — в диковину им «московитский ангел», но скоро привыкли и внимания на него уже не обращали.
От этой визгливой, истеричной команды любой нормальный человек в два счета сошел бы с ума, а Марина ничего, справлялась.
Вдруг среди полячек проносился слух, что московиты затеяли всех шляхтичей перебить, а шляхтенок насильно постричь в монашки. И сразу начинались вопли, слезы, причитания. Появится Марина, на одних прикрикнет, других успокоит — глядишь, снова тишь и гладь.
То фрейлины забунтуют против русской еды — мол, у них от солений, икры и кваса животы болят. Марина шлет записку жениху, и в тот же день русских кухарок сменяют польские. На время в монастыре опять воцаряется тишина.
Но ненадолго. Прорвались сквозь караул гневные польские ксендзы, потребовали немедленной встречи с ясновельможной пани. До них дошел слух о ее переходе в православие. Ладно, она дает им аудиенцию. Ластик тоже присутствует, по должности, и видит, как быстро Марина усмиряет иезуитов: немножко поворковала с ними, помолилась, тут же исповедовалась, и они ушли укрощенные.
В любой ситуации невеста сохраняла полное хладнокровие, хотя забот у нее хватало и без придворных дур с ксендзами. С рассвета до темноты вокруг Марины суетились портнихи — нужно было в считанные дни сшить две дюжины платьев, да украсить их десятью тысячами драгоценных каменьев, сотнями аршин золотой и серебряной канители, кружевами, затейливой вышивкой.
При этом у Марины находилось время и на то, чтоб поболтать с невестоблюстителем. С Ластиком она теперь держалась совсем не так, как при первой встрече, а ласково и открыто, называла трогательно: «братик».
После того как избавилась от иезуитов, села рядом, положила Ластику руку на плечо и спросила:
— Скажи, братик, вот ты в раю побывал. Есть ли для Бога разница, в какой из христианских вер душа пребывала — в римской или в русской?
— Я про рай ничего не помню, — ответил он, как обычно.
Марина задумчиво смотрела на него. Помолчала немного и говорит:
— Мои дуры называют тебя врунишкой. Мол, не может москаль-еретик в Божьи ангелы попасть. А доктор Келли уверен, что ты истинно явился из Иного Мира. Я ему верю, он в таких вещах разбирается. Но про спасение души и про грех спрашивать его напрасно, ибо святости в англичанине ни на грош… Вот ты сердцем чист, потому и спрашиваю. Грех ли это перед Богом, если я веру поменяю? Ведь не признают русские люди царицей иноверку, так навечно и останусь для них чужой.
— Ты хочешь принять православие по расчету? — неодобрительно покачал головой Ластик.
Она улыбнулась:
— Глупенький ты еще, братик. — Хоть по-русски она изъяснялась на диво складно, твердое «л» ей никак не давалось, поэтому получилось «гвупенький». — Не по расчету, а по любви. Ведь не грех это? Притом не в магометанство какое-нибудь перейду или, упаси Боже, огнепоклонство, а в веру древнехристианскую, чтущую и Спасителя, и Деву Марию. — Она благочестиво перекрестилась, и не слева направо, по-католически, а по-православному — справа налево, двумя перстами. — Ведь и Христос любви учил, правда?
Ластик немного поразмыслил.
— Наверно, не грех, — неуверенно сказал он. — Если из-за любви…
Подумал: надо будет у Соломки спросить, она наверняка знает. Только теперь ее не скоро увидишь — лишь, когда торжества закончатся.
Марина засмеялась, потрепала его по волосам.
— «Наверно». Ах, что ты можешь знать про любовь? Хоть и говорят, что разумом ты мудрец, все равно еще несмышленыш.
Так и не помог он Марине в этом трудном вопросе, а больше ей, бедной, посоветоваться было не с кем.
Вообще-то считалось, что эти пять дней невеста проживет под опекой царицы Марфы, которая будет по-матерински наставлять ее и просвещать, но государыня-мать по части советов и особенно просвещения была малополезна. За четырнадцать лет, проведенных в полузаточении, вдова Ивана Грозного так настрадалась от вечного страха, скуки и скудной пищи, что теперь не переставая ела всякие разносолы, слушала сказки мамок-приживалок да глядела через оконце на удальцов-песенников, услаждавших ее слух. За монастырские стены песенникам ходу не было, поэтому они заливались соловьями снаружи, а Марфа, толстая, распаренная, кушала курятину с утятиной, если постный день — красную и белую рыбу, заедала пирогами, запивала киселями, и ничего ей больше от жизни не требовалось, лишь бы не сослали назад в лесную глушь, горе мыкать.
И государь, и невеста поспешали со свадьбой и едва дождались, когда пройдут положенные пять дней.
И вот счастливый день, наконец, наступил.
Венчание состоялось в Успенском соборе. Невеста опять нарядилась по-русски. Ее платье было так густо обшито самоцветами, что никто не смог бы понять, какого цвета ткань. Марина еле переставляла ноги в этом тяжеленном, негнущемся наряде — ее вели под руки две боярыни. Но уста полячки озаряла ясная улыбка, и глаза сияли.
Дмитрий шествовал столь же торжественно, в усыпанной алмазами и рубинами царской шапке, в длинной малиновой мантии. За ним пажи несли на бархатных подушках символы самодержавной власти — скипетр и золотое яблоко.
Молодые обменялись кольцами, произнесли слова супружеского обета.
Из католиков на венчание был допущен лишь отец невесты, прочие остались ждать снаружи. И всё равно бояре ворчали — всё им было не так.
Ластик стоял в толпе придворных и не мог не слышать, как сзади шепчутся: